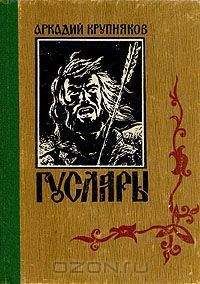Наталья Султан-Гирей - Рубикон
Клодия, стоя в толпе легионеров, толкала соседей в спину:
— Кричите, чтобы император избрал меня своей подругой! Громче, доблестные воины, громче!
Молодой центурион, паясничая, завопил:
— Бамбино! Сделай Клодии удовольствие! Женись на ней!
— Женись, женись! — закричали выстроившиеся по обеим сторонам реки когорты. — Тогда поверим вашему миру!
— Подари Марку Антонию внука!
— Да здравствует внук Цезаря и Антония!
Вожди стояли рядом на плоту. Антоний дружелюбно обнял Октавиана:
— Что ты скажешь, зятек?
— Я покоряюсь воле моих легионов.
Прощаясь, Антоний задержал в руке пальцы Октавиана и как бы вскользь бросил:
— Необходима диктатура, но коллегиальная. Второй триумвират — ты, я...
— И Марк Агриппа, — быстро вставил император.
— И Эмилий Лепид. Марк Випсаний Агриппа не имя для Рима.
— Лепид – пьяница.
— Э, мой друг, люди топят рассудок в вине, а Лепид черпает в нем мудрость. Он, пьяный, прямо гениален.
— Я согласен. — Октавиан посмотрел поверх головы союзника.
— Если ты мне будешь другом, — веско проговорил Антоний, — нам понадобится осел, чтобы везти наши грехи. Вдвоем мы всегда сделаем так, что Лепид останется виноватым, и Рим будет его клясть за все промахи триумвирата.
— Я буду тебе верным другом, как ты был Цезарю.
Антоний обрадовано расплылся в простодушной улыбке.
Глава четвертая
I
Великолепие южной осени одело Рим в пурпур. Пунцовые ветровые облака роняли в Тибр пламенеющие отблески, а вдали мягкие контуры лесистого Соракта расцветились темно–красным и золотым. В самом воздухе, чистом и солнечном, дышала крепкая свежесть вина и осени.
Квириты стекались на форум. Впервые за много лет властители Вечного Города вспомнили о воле народной. Триумвиры просили собрание народа римского утвердить их чрезвычайные полномочия для устройства дел державных. Рим стоял на краю пропасти. Однако пока не находилось нового Квинта Курция, чтоб ринуться в бездну и этой искупительной жертвой спасти родной город, зато уже в течение полустолетия каждый доблестный квирит пытался столкнуть в разверзтую бездну соседа.
— Италия, как Кронос, пожирает своих детей. Пора прекратить братоубийственные смуты! — провозгласили триумвиры.
Зеваки плотной стеной оцепили улицы.
На форуме Романум двенадцать триб[40] Рима, разбитых по центуриям, выстроились приветствовать новых властителей мира. Все понимали – голосование не больше чем формальность. Воля народа римского давно предрешалась в палатках полководцев. Но поглазеть хотелось каждому. Крыши близлежащих храмов и домов, перекрытия портиков, окаймляющих форум, кишели любопытными.
Львиный облик Антония, опухшее лицо Лепида, умное и злое, со странным противоречивым выражением безразличия и острой наблюдательности, детская миловидность наследника Цезаря привлекали всеобщее внимание.
Антоний и Лепид предстали на трибуне, облаченные в тяжелый пурпур и металл доспехов. Октавиан, тоненький, светлый, как солнечный лучик, стоял между ними в простой белой тунике. Он держался просто и с достоинством.
В народе шепотом из уст в уста передавали: "В древних книгах судеб человеческих начертано: родится Младенец и избавит Рим от смут. С воцарением Дивного Дитяти вечный мир и радость засияют на земле".
Набожный Меценат еще за несколько дней до народного собрания посетил всех гадателей. Этрусское золото открыло римским жрецам истину, скрытую в грядущем. Вещим Девам Сивиллам Марк Агриппа сам отнес половину мутинской добычи.
Однако голосовать он не собирался. Воины не вмешиваются в дела гражданские. Агриппа наблюдал. По его знаку переодетые рабы Мецената бросали под ноги Октавиану розы и вопили славословия.
Растроганный любовью народной, сын Цезаря, отвечая на приветствия, очаровательно улыбался. Какая–то женщина в умилении всхлипнула.
Агриппа невольно подивился актерскому таланту своего друга. Каждый жест, каждая улыбка были точно рассчитаны. Октавиан знал римскую толпу и уже прочно вошел в роль.
Гул приветствий вывел пицена из задумчивости.
Взявшись за руки, триумвиры глубоким поклоном благодарили народ римский за доверие. Целуя священный меч Ромула Квирина,[41] они присягали не обмануть надежды Вечного Города.
— И Италии! — выкрикнул Октавиан. Клиенты Мецената грянули:
— Аве Цезарь!
Толпа восторженно подхватила. Рим уверовал в Божественное Дитя.
II
Грозди винограда сияли в золотой чаше. Домашний сыр был подан по–деревенски на узорных листьях, но сквозь темную зелень мерцали массивные тарелки кованого золота. Персики благоухали в переливчатых вазах Мурены, а маленькие изящные чашечки прозрачного нефрита хранили засахаренные финики из Африки.
За столом, накрытым на двоих, было больше лакомств, чем сытных блюд. В узкогорлых причудливых кувшинах ждали вина, легкие и приторные; повсюду благоухали живые цветы, щедро разбросанные по тонкой скатерти из шелковистого египетского льна.
Агриппа озабоченно поправил розы в большой этрусской вазе. Они вдвоем справят новоселье. За целый месяц триумвир наконец удосужился вспомнить друга.
В Риме молодой пицен чувствовал себя заброшенным. Бесила неопределенность положения. Победу над Антонием одержал Октавиан. Это знали все от мала до велика. А Марк Агриппа был всего–навсего одним из полководцев императора и ничего больше! Кроме того, он был школьным товарищем Октавиана и еще неизвестно — за доблесть или по особой дружбе в двадцать лет безродный пицен носит звание легата... Вдобавок косые взгляды родни друга...
— Замерз! Отогрей меня. — Октавиан сбросил солдатский плащ и остановился на пороге, обвел изумленным взглядом изысканно сервированный стол, яркие фрески на стенах триклиниума, взглянул на плафон, где резвые маленькие фавны играли гирляндами винограда и роз.
— Совсем не похоже на походную палатку! Ты стал эпикурейцем!
Красивые рабыни в богатых восточных нарядах внесли блюдо с жареными дроздами и чаши с подливкой из барбариса. Октавиан поморщился:
— Ты не женат, и устраивать у себя публичный дом ни к чему.
— Без женских рук в доме...
— Пусть будут, но на задворках. Во всем надо соблюдать приличие. Обижаешься, что я стараюсь не бывать с тобой на людях... Посмотри, как ты лежишь за столом. Навалился всей грудью и грызешь кости, как волк. Надо тебе подумать о своих манерах.
Агриппа вскочил и сжал Октавиана так, что тот не мог пошевелиться.
— Плати выкуп!
— Бешеный пицен! Я не хочу, чтобы люди, недостойные ремешка на твоей сандалии, хихикали над тобой. Безопаснее кинуться в бой обнаженным, чем обнажить в Риме душу. Лги, ни одного слова правды, ни одного искреннего взора, ни одной простосердечной улыбки для них... Малышом я уже знал, что, если меня ласкают, значит, им нужно что–нибудь от Цезаря.
— У тебя есть искренние друзья. Меценат осуждает нас за нерешительность, но относится к нам чистосердечно. Он не понимает, почему мы не прикончили Антония.
— И не двинули Италию на Рим? Ради деревенских толстосумов я не отдам мою столицу на разгромление. Рим — колыбель, мозг и сердце Италии. Меценат этруск и на все смотрит с высоты фьезоланских холмов... Говоришь, он ко мне искренен?
— Да!
— Как хозяин к беговой лошадке. Пока беру призы на бегах, меня холят, угощают медовыми пирожками, а сломает лошадка ногу — на живодерню ее! Кто был со мной искренен и бескорыстен? Даже Цезарь любил во мне наследника, а не ребенка!
— Остается прибавить меня, — с горечью вымолвил Агриппа.
— Ты мое сердце. — Октавиан внезапно нагнулся и поцеловал край его туники.
Агриппа в изумлении откинулся.
— Что ты?
— Храброе, верное, чистое сердце. Если я когда–нибудь лишусь твоей дружбы, я превращусь в живого мертвеца. Налей вина за нашу дружбу!
Октавиан поднял чашу и нараспев прочел стих:
— О сотрапезники! Ныне угрюмые бросьте заботы,
Чтобы сверкание дня сумрачный дух не смутил.
Речи тревоги душевной пусть будут отвергнуты, чтобы.
Ей не поддавшись, душа дружбе предаться могла.
Радость не вечна: часы улетают; так будем смеяться:
Трудно у судеб отнять даже единственный день.
— Он смущенно улыбнулся: — Это тебе! Когда у меня родятся стихи, я всегда думаю о тебе!
— А в другое время и не вспомнишь?
Октавиан отпил вино из чаши, которую все еще держал высоко подняв, и поднес к губам Агриппы:
— Кто допьет вино после друга, тот узнает все его тайные мысли!
Они пили из одного кубка и, забыв о манерах, ели из одной тарелки.