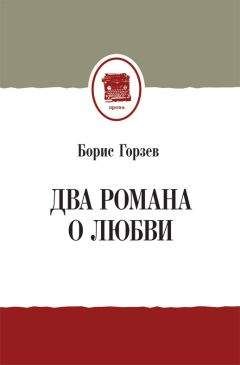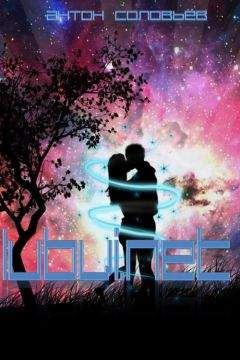Борис Карсонов - Узник гатчинского сфинкса
— Да, папенька, да. Пусть идет домой, — согласился Атий. Солнышко было высокое и горячее. Над садом кружил ястреб. В кустах вишенника дрались воробьи. К оранжевому цветнику, волоча по траве сачок, бежал Илий.
— А там лягушка! Лягушка там! — кричал он. — Я знаю, где она живет! Я знаю! — кричал он настойчиво.
Садовый домик тихо стоял за малинником, подле темных лип. Старые ветви охватывали плоскую тесовую крышу, терлись о стекла и белые веселые наличники полуоткрытого окошка, в голубоватой тени коего угадывались уют и прохлада. Ночами в непогоду деревья гулко шумели, будили и тревожили душу. Малыши забирались на широкий диван и, укрывшись с головой одеялом, притаившись, со страхом прислушивались, как кто-то ползал, кричал и топал на крыше, скребся у окна, стонал в глубине сада. В такие часы Андрей сказывал им сказки. Поправит подушки, подвернет сползшее на пол одеяло, усядется на краешек в ногах и зашепчет:
— …И вот пошел Песочный человечек с мешком, да как начал палкой стучать, да глазками туда-сюда зыркать…
— А может, злая Гера? — пробует так же шепотом уточнить Атий.
— Нет, злая Гера спит, она ночи боится.
— Ага, боится, — догадывается Илий и хватает отца за руку. — А почему Песочный человечек не боится?..
Разговоры эти могут быть долгими. И жутко, и хорошо лежать так в тепле, сухости, слушать тихий голос отца и знать, что ни злая Гера, ни Песочный человечек в домик их не пройдут…
Андрей и сам любил тихие часы эти, теплое дыхание ребят, светлые глаза их, в которых и страх, и любопытство, и нетерпеливое ожидание, и вечный вопрос: «А почему?»
Сказки свои он нашептывал экспромтом, а потому они могли переходить одна в другую — до бесконечности. А поскольку их приходилось повторять, а слушатели его обладали незаурядной памятью и тут же могли уличить в обмане, неточности, сказочник, едва только ребята засыпали, бежал в большой дом и поспешно записывал их в амбарную книгу с всевозможной тщательностью. В книге этой были и повести, и рассказы, и переводы… А всего таких книг набрался целый сундук, стоявший в их маленькой спаленке…
…Часам к пяти после пополудни на город набрела одинокая тучка. Она пригасила горячее солнышко, неприметно стушевала резкие тени в саду. Прохладой прошелся по верхам берез легкий ветер. И все замерло в неясном ожидании. И сад был звонок этой внезапной тишиною. Ударит ли крылом птица, хрустнет ли ветка под тугой лапкой петуха — все отзывалось в его потемневших углах.
А небо меж тем лиловело, все тяжелело и лениво, нехотя уже начинало погромыхивать. Андрей торопил детей. Едва добрались до охотничьей избушки — так называли они садовый домик, — как низом в лицо ударили мелкие тугие вихри, взметывая пыль, куриные перья, листву прошлогоднюю. И тут же в лопухах глухо и крупно застукало, зашелестело в густоте акаций.
— Дождик! Дождик! — закричали дети.
И в ту же минуту над садом зависла огненная петля, высветив все вокруг мертвенно-голубым светом. Андрей бросился к раскрытому окну, но прежде, чем успел захлопнуть его, почувствовал, как внезапно обдало его каким-то прохладным сгустком, и вмиг прервало вдох, как если бы вокруг образовалась пустота. И в ту же секунду где-то совсем рядом, с перекатом, пришелся страшный удар.
— Илья Пророк! — весело закричал Атий.
— Папенька, я боюсь! — Илий вцепился ручонками в брюки отца.
Андрей плотно закрыл ставни и зажег свечу. Пламя колебалось, расплывчатые тени метались по избушке, отражаясь в иссиня-черных стеклах окна и тусклом сколыше чайника на столе. На улице еще слышались раскаты грома, но они все слабели и слабели, а дождь усиливался. И вот уже потоки воды хлестали по тесовой крыше, враз заполнив бочку, что стояла на углу под скатом, и слышно было теперь, как она ручьями лилась через замшелые зеленоватые края.
Атий и Илий, притихшие и уставшие от долгого дня, поджав ноги, сидели на диване. Потом Илий потянулся к подушке, обхватил ее ручонками и закрыл глаза. Вскоре и Атий прикорнул рядом. Андрей укрыл ребят старым суконным пледом и взял книгу. Но читать не хотелось: все думы… О починке изгороди на поле со стороны городского выгона у Башняговского озера; о гималайском ячмене — что-то опять не идет в рост, и дожди вроде были, и тепло… О том, что не худо бы амбар поднять на фундамент…
Почему-то вспомнился родимый дом в Ментаке, с широким, как корабельные ростры, балконом в парк и со львами у парадного входа. Львы были добродушны, с ленивым прищуром, похожие на дворовую собаку садовника. Они лежали и грелись на припеке на низких гранитных подставках, с темной отполированной гривой, на которую кухарка любила вешать на просушку тряпки. Вспомнился большой, как лес, старинный парк с темными сырыми аллеями из лип и дуба, с глухими полянами, с тревожными заблудившимися голосами детей. В парке этом были пруды с глубокими омутами, русалками и водяными… Страшные рассказы об утопленницах!.. Длинный низкий подвал, еще издали отдающий запахом лежалых яблок и меда; прокопченные серые камни винокуренного заводика; густой с молодым осинником лес за горой, и на ее вершине — родовая каменная часовня с высоким тусклым крестом и узкими каменными ступенями, запорошенными плесенью, круто ведущими в склеп…
Хорошо думается в такие минуты, бередишь душу забытым, и горька боль эта, и сладка, и хочешь остановиться, а не знаешь как, и терзаешь сердце все новыми и еще более щемящими подробностями детства, когда так же, как и Атий с Илием, нежданно засыпал в вечерние сумерки в гостиной или в беседке у пруда, и сквозь шум ветра или густой говор взрослых пробивался далекий голос матери: «Ласточка моя, ангелочек мой небесный, давай отнесу я тебя в кроватку, голубочек ясненький». Воркотня матушки убаюкивала и расслабляла, и уносила куда-то далеко, за тридевять земель, в иные города и царства…
В дощатых сенцах металлически скрипнули половицы, и слепые руки, в поисках скобы, начали ошаривать дверь. Андрей поднялся, но тут дверь подалась, и на пороге возникла темная большая фигура в глухом башлыке и длинном брезентовом плаще.
— Батюшка, Андрей Евгеньевич, ой, страсть-то какая, ой, страсть!.. — мелко, сбивчиво заговорили под башлыком.
Это няня, старушка набожная, совестливая и великая постница. Со стуком скинув с себя брезент, она оказалась худенькой, с острым подбородком и добрыми, мягкими руками.
— Прибегла Марфуша, бают, у почтаря, Михаила Васильевича-то, корову громом убило!.. О, страсть-то господня! Отродясь такой грозы не видывала!.. А касатики мои почивают… Не емши, чай… Анна Васильевна вот послала меня проведать вас тут… Страсти-то господни!.. За грехи, видать, наказывает нас.
— А что, Арина Павловна, дождь не стихает?
— Убавился. Вроде бы и небушко посветлело, потоп, как есть потоп…
Когда Андрей вышел из домика, дождя уже не было. Остывший сад, отяжелевший, потрепанный, мокро блестел, а дорожки — густо усеяны сбитым листом и мелкими ветками. Предвечернее небо по горизонту еще озарялось немыми всполохами, и вспышки эти холодным блеском ложились на темные лужи, ртутно светились в косых рамах теплицы. Настойчиво, со всех сторон, его обступали запахи мятого листа, флоксов, железной окалины…
Дышалось легко. И шаг был свеж и пружинист. Он вышел на среднюю аллею, когда вдруг по саду туманом разошлись тугие, низкие звуки. Они возникли и сгасли бесследно. Андрей остановился. И в ту же секунду звуки эти родились вновь, настойчивые и мощные…
То была «Missa Solemnis» Бетховена. Он узнал ее тотчас же, потому что не далее как третьего дни принес от Нарышкиных ноты.
Раскрытое окно, белый, с темной складкой занавес, Анна, Бетховен, вечерний сад и эти эдемские зарницы!..
Он прислонился к косяку двери. Он видел ее в профиль, на фоне окна. Она была бледна и строга, как пред алтарем. Библейским откровением лежала перед ней россыпь клавиатуры, по которой, страдая и мучаясь, совершала она свое утомительное паломничество…
Безгрешные, святые звуки!..
Наконец руки Анны упали в аккорде и… она уже не в силах была поднять их — так и замерла, неподвижная, как изваяние.
Окно вспыхивало слабым лампадным светом, обнажая часть фортепиано с подсвечником, худую левую кисть Анны и грозный лик Спасителя в углу на стене.
— Душа моя! — совсем тихо позвал Андрей. Но Анна молчала и была так же неподвижна, а когда, наконец, повернула к нему продолговатое бледное лицо, по нему скатывались слезы… Она улыбнулась ему тихой, покорной улыбкой. Он все понял. Эта «Missa Solemnis» предназначалась… Энни. Их кровиночке, далекому, неведомому, незнакомому Энни.
Боже, как же любил он ее в эту минуту, как любил! Только бы достало сил его, разума его вынести эту тяжкую ношу!..
Примечания
1
Вы слишком широко поднимаете ноги! Тут вам не Веймар, а Россия! (нем.)