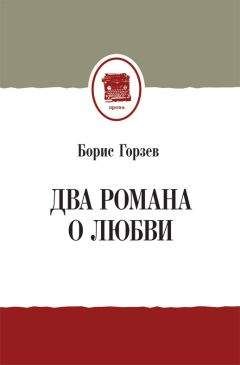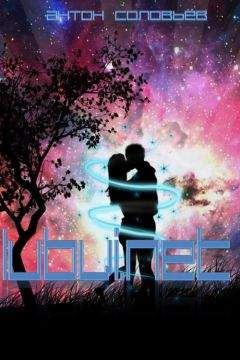Борис Карсонов - Узник гатчинского сфинкса
— Лина? Лина, ты где? — с надрывом, но тихо вопрошал он свою меньшую, незамужнюю дочь Каролину. — Слышишь ли ты, он со-жа-ле-ет! Бедный царь! Жалко царя! Он так расстроен, он бы всей душой, но вот никак… А уж как бы он желал бы, будь его воля!.. Уж как сожалеет! Ах, какое иезуитство! Какая мерзость!..
И, неожиданно выпрямившись, отбросив с плеч плед, худой и страшный, он взметнул над собою тяжелым резным креслом и ударил им в наборный паркет кабинета.
— Мерзость! — крикнул старик шепотом. Хотел дотянуться до дивана, но его развернуло, и он, все еще продолжая разворачиваться, безмолвно, с удивлением и печалью в лице, рухнул на пол…
В письме есть одна фраза, сказанная отцом, когда он, разбитый параличом, уже наполовину одеревенелый, половиною еще живого лица своего показал гримасою на портрет Андрея, висевшего у изголовья, глухо исторг:
— Верю я! Верю… Время настанет… Будем свободны, счастливы будем!..
Это были последние слова батюшки. Никогда не забудет Андрей слов этих. Много-много лет спустя судьбе угодно будет забросить его к младшей сестре, в благопристойный и чопорный Корншталь, что близ Штутгарта. Здесь, в низкой и пустой мансарде средневекового каменного дома с крутою побуревшею черепичного крышею, длинной ноябрьской ночью 1873 года он разложит на массивном дубовом столе, покрытом скатертью с райскими птицами и томными пастушками, свою обгоревшую рукопись, только что доставленную ему из Парижа… Зоркое, исстрадавшее сердце его в смятении замрет перед этими плотными, обугленными листами, враз перенеся его к обломкам Вандомской колонны, на паперть Пантеона, к серой гранитной стене Пер-Лашез, где на каменных плитах, присыпанных желтым песком, казалось, еще и сейчас дымилась обреченная кровь коммунаров и где в беглых сквозняках средь темных надгробий и обломанных могильных крестов жутким рефреном бьются слова: «Aux armes! Aux armes!»[37]
И вот уже не Пер-Лашез, и не желтый песок, а громада строящегося Исаакия и горячий снег Петровской площади у Сената, и он, поручик лейб-гвардии Финляндского полка, Андрей Розен, бледный и страшный в своей решимости, нервно скосив подбородок и жадно глотая открытым ртом раскаленный воздух, с обнаженной шпагой, встал перед полком, перекрыв своим взводом Исаакиевский мост.
— Н-и-и ша-агу вперед! За-а-колю-ю!..
А за спиной рваный вой картечи, свист пуль, теплый вал конницы, крики и стоны раненых — за спиною гуляла смерть. И вот уже свежим нарывом вспух окровавленный невский лед, обласкивая под собою в тихой воде безгласных солдатушек восставших полков.
Острой болью памяти опалили обугленные листы эти их автора.
«Бесценный друг мой, — напишет он Михаиле Александровичу Назимову в его псковскую деревню. — Провидению было угодно провести меня тут по сновидениям нашей юности и приобщиться святых тайн, вкусив, однако, не тела Христова, а очищающую совесть праведную кровь плебса Парижа… Только что получил я манускрипт моей французской книги, за исключением трех глав, погибших в прометеевом огне 1871 года…»
Холодный дождь тусклым шорохом катится по черепицам, перо не успевает за мыслью, но тяжкий груз лет давит плечи и грудь, туманит сознание… Но он не смел дать себе послабление, не имел права! За ним стояло сто двадцать его товарищей, друзей — соузников, почти все уже ушедшие в иной мир, иные дали… Он должен! Он обязан… высказаться на свободе, коль царь запретил ему высказаться дома, в России. Он торопился, он боялся не успеть… И только однажды, опять-таки в письме старому своему другу, у него вдруг вырвалась жалобная нотка:
«Работа над французским изданием не дает получаса досужего, а силы и глаза уже далеко не те…»
Именно там, в Корнштале, сырой ноябрьской ночью в гулкой мансарде, с яркой подробностью он вспомнит Курган, февральскую ночь 1834 года, тайное письмо из Ревеля и пророческие слова отца своего, сказанные на смертном одре о грядущей свободе, о счастливом времени!..
И если теперь вам, читатель, попадет в руки книга Розена то ли на французском, то ли на немецком, английском или русском языках — во всех изданиях вы найдете последние слова умирающего отца его, Евгения Розена…
Но то будет потом, потом. А сейчас — он и Вселенная! Один на один. Рушится всякая связь, надежда, иссякло терпение. Что-то порвалось в нем. Износилось. И так тошно! И так мрачно! Беспомощность и отчаяние давили, расчленяя душу: жалость ли к себе, страх за детей, жену?.. Мысль, избиенная, изнуряла и сушила разум… И нет выхода!.. Ему вдруг почудилось, что он не в своем саду, а под неким таинственным колпаком, в какой-то глубине, на каком-то дне, и куда ни повернись — ни окон, ни дверей. Все ватное, душное, лохматое. И нет смысла бежать, нет смысла жить — выхода нет!..
На миг всплеснулась в сознании облегчающая душу мысль: все оборвать!.. И вдруг та простота и та легкость, с которой он пришел к этому, и то желание, с которым он так поспешно согласился, — ужаснули его. Нет, нет! Только не это!..
И тогда он остановился. Обхватил что-то белое, лоснившееся блеклым глянцем. И замер, со страхом прислушиваясь к себе, к своему потустороннему сознанию, которое отделилось от него и томилось теперь само по себе, отдельно. Он стал замечать себя со стороны в какой-то тоге схимника, взбиравшегося на свою Голгофу с темной ношей креста, в кровь обивающего о каменья, но не ноги, а душу свою…
Но потом вдруг что-то изменилось. Темный колпак бесшумно сполз куда-то вбок и вниз, и открылись низкие, звонкие звезды. Они были холодны, как пламя на тонких свечах у изголовья матушки. Возможно, это она и папенька посылали ему Оттуда благословение свое… По сути, это такая надежная и простая связь!..
Что-то где-то хрустнуло, вздохнуло. Темная, расплывчатая тень низко плыла над тропинкой, неожиданно вспухая и загораживая собой полмира.
— Андре?
Он вздрогнул — так внезапен был этот голос.
— Пора, — сказала Анна, — скоро утро.
Андрей отпустил дерево, отряхивая варежки, переступил, утверждаясь на тверди земной, протяжно, как ребенок, со всхлипом, вздохнул. Оглянулся. Он стоял в глухом углу сада, что примыкал к вновь нарождающейся улице, неподалеку от старой кузницы. Было еще темно, но на востоке уже наметилась светлая полоска. Чуть слышно прошелся верхом деревьев ветер.
…Власть — сила, а где сила, там Правда с Верой не живут; в ее нечестивых замыслах, как в игрищах Иуды, нет и не может быть опоры!..
— Пора, — шепотом сказала Анна и взяла его под руку.
Они молча шли тропкой к дому, обремененные некой тайной, которую ни рассказать, ни выразить было нельзя.
СТАРЫЙ САД
По чечевичным листьям акаций матовым шелком прокатывалась теплая рябь. Жужжали шмели. У забора в горячей пыли купались куры. Запах гвоздики мешался со смолистым запахом новой сосновой изгороди. На садовых дорожках, косо прошитых белым светом, пестро, как на мостовой. От крайней с проулка липы слышался тупой, настойчивый стук дятла.
Сад был светел, ласков, мудр. Он источал успокоение и вечную надежду. В нем чувствовалась некая гармония, тайная, нерастраченная сила искренности и доброты.
Андрей заметил, что каждый раз, погружаясь в его узкие аллеи, гуляя по заросшим мелкой травою тропкам, он как бы очищается от суетности быта, скверны мирской, и черные мысли, еще недавно безысходным грузом давившие плечи, сменялись просветленной, успокоительной надеждой. Такое бывало с ним и тогда, когда он в вечерние часы или в часы ненастья садился за фортепиано и уплывал в неведомую страну грез и сказок, где один судия, одно божество — совершенство! Возвышенные страдания, возвышенная любовь, даже смерть — и та всеочищающе возвышенна и прекрасна!.. Но он хорошо также понимал и то, что нельзя бездумно поддаваться обаянию этой волшебной феи, ее колдовству, ее обманчивому экстазу, отнимающему иногда разум и волю к сопротивлению…
Впрочем, так ли это было, он не мог сказать наверное. Природа и музыка — сестры, и это — главное, и в этом — правда!
— …Папенька, мулавей! — Атий сидел на корточках с маленькой зеленой лейкой. Сухим стебельком он гнал перед собой крохотного глянцевитого муравья. Муравей был самостоятелен и смел. Он все норовил то ли улизнуть, то ли залезть на стебель, а то вдруг замирал, к чему-то прислушиваясь, поводя едва различимыми усиками.
— Дружочек, пусть он идет домой, видишь, как муравьишко устал! — сказал отец.
— Да, папенька, да. Пусть идет домой, — согласился Атий. Солнышко было высокое и горячее. Над садом кружил ястреб. В кустах вишенника дрались воробьи. К оранжевому цветнику, волоча по траве сачок, бежал Илий.
— А там лягушка! Лягушка там! — кричал он. — Я знаю, где она живет! Я знаю! — кричал он настойчиво.
Садовый домик тихо стоял за малинником, подле темных лип. Старые ветви охватывали плоскую тесовую крышу, терлись о стекла и белые веселые наличники полуоткрытого окошка, в голубоватой тени коего угадывались уют и прохлада. Ночами в непогоду деревья гулко шумели, будили и тревожили душу. Малыши забирались на широкий диван и, укрывшись с головой одеялом, притаившись, со страхом прислушивались, как кто-то ползал, кричал и топал на крыше, скребся у окна, стонал в глубине сада. В такие часы Андрей сказывал им сказки. Поправит подушки, подвернет сползшее на пол одеяло, усядется на краешек в ногах и зашепчет: