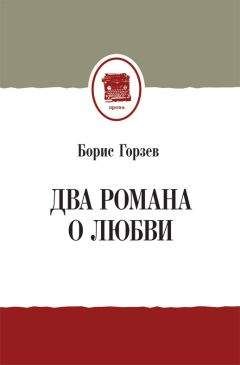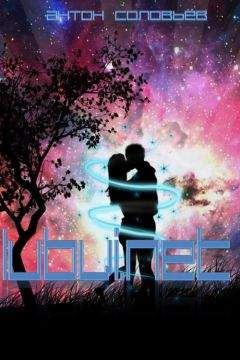Борис Карсонов - Узник гатчинского сфинкса
Он сидел, устало откинувшись на тяжелую спинку кресла, перехватив длинными, худыми пальцами переносицу и закрыв глаза. Правая рука его сползла с подлокотника и едва ли не касалась пола.
Почему-то в последние дни чаще обыкновенного память его с жесткой настойчивостью возвращала в детство, но возвращение это несло не щемяще-радостную, светлую грусть, а тяжелое чувство потерянности и скорби. Как в навязчивом горячечном сне, наплывали одни и те же разорванные картины позднего мая, когда тринадцатилетний подросток, худой и длинный, в коротком зеленом сюртучке, перешитом из отцовского мундира, поспешно сбегал по серым каменным ступеням крыльца Нарвского народного училища и, не замечая ни сплетения дикого хмеля, ни рыже-зеленых колючих стеблей цветущего шиповника, мчался, не переводя дух, небольшим пустырем, мимо старой часовни, мимо пожарной каланчи, мимо подворья сапожника Груммеля на торговую площадь, где возчики дальних деревень Ментака и Авинурма уже не спешно укладывали телеги городскими покупками и старыми пустыми бочками из-под вина. И вот уже порожний обоз приминает влажную пыль нарвской дороги. Звяканье удил, скрип телег, глухой клекот дегтя в лагуне, что болтается на роспуске задней подушки. Вечером, когда зажигались летние звезды, где-нибудь на дерновой поляне у ручья обоз располагался на отдых. Жаркий костер, тревожное всхрапывание лошадей в темноте, завораживающие байки бывалых людей. А то вдруг кто-то запоет протяжно: «Ай-ду, ай-ду, ай-ду…» Под грубым и толстым чепаном тепло, покойно. Мальчик скользит пальцами по плотно вспухшему внутреннему карману с деньгами и, успокоенный, засыпает тут же, у костра. А летняя ночь коротка. В низком предутреннем тумане темным бугром вдруг обозначится широкий круп лошади или где-то вынырнет и тут же исчезнет до жути высокая голова ее. Кто-то толкает: «Эй, барич, вставай!..»
Дымится на тихом солнце роса, небо в жаворонках, рощи, озимые поля и серая млечная дорога — все зависает и клубится. Вот уж завиделись в высокой роще крутые скаты мызы Каллины. Боже мой, скоро родимый дом! Дом, который он не видал с рождественских дней. С этого места и до самого Ментака — все тут знакомо до сладостно-щемящей боли! Каждый бугорок, каждый овражек, каждое деревце… — все обегано, все ощупано, и все это с материнской песнею осело в душе его, как слова колыбельные, как интонация речи родимой!.. Он тянет гусиную шею, встает на колени, придерживаясь за крутое плечо мужика. А телега катится, катится, мужик смеется: «Соскучился?!»
Вот уж и взгорок, вот и гром-камень при дороге, с темно-бурой подпалинкой на бугристых боках, в незапамятные времена расколотый пополам молнией. На опушках рощиц осьмиугольные сенные сараи; наконец показались два верстовых столба в виде обломков колонн. Говорят, их поставил батюшка еще до женитьбы — дань масонству!..
Он еще выше, выше тянется на тряской телеге. Ноги дрожат, волнение перехватывает горло: там, меж плотной зеленой завеси старинного парка, уже просвечивались белые стены Ментака. И вдруг он встал в рост, выхватил у возницы вожжи и крикнул с мальчишеским подвизгом:
— Пошел, пошел!..
Замелькали темные стволы лип, позади остались старая рига, конюшня с загоном, тихий пруд, побеленные каменные амбары. Лошади вынесли на широкий открытый двор перед длинным двухэтажным господским домом. Попавший тут встречь древний конюх Валдус, обросший нечесаными космами и более похожий на водяного, сорвал с головы широкую кошмовую шляпу, низко поклонился молодому баричу.
Ему кто-то махнул белым платком с балкона, кто-то выбежал из парадных дверей. Младшая сестренка Каролина уже прыгала подле телеги на одной ноге и что-то кричала, а толстый Юлька важно восседал у входа на каменном льве и свирепо размахивал красной шпагой…
— Редекер доволен тобою, — почти торжественно произнес батюшка после того, как сестры и матушка выпустили, наконец, его из своих объятий, — твои успехи меня радуют…
Как странно, как ново было все в этом доме: и высокие потолки оказались не столь уж и высоки, а напольный канделябр и инкрустированная бронзой конторка как-то сжались, почти до неправдоподобия.
Потом батюшка принес ножницы и сам разрезывал суровые нитки, коим был зашит внутренний карман его сюртучка. Медленно и торжественно тут же, на диване, пересчитывает он деньги, полученные от подрядчика за проданное вино.
— Молодец! — сухо говорит батюшка, и его широкая костлявая ладонь вроде бы случайно ложится на белобрысую голову сына. До сих пор чудится ему тепло сильной отцовской ладони, в которой он ощущал не просто ласку, а что-то большее, что в те времена он еще не мог постигнуть умом и что позже определил как нравственную подмогу…
После обеда по обыкновению отец зовет его в кабинет и перед сном просит читать ему. Большое вольтеровское кресло у окна, тяжелое драпи с золотыми кистями, в голубоватом плафоне потолка порхают розовые купидончики, в углу, в палисандровом шкафу, тускло поблескивают корешки книг. На широком зеленом поле стола — папки, книги, счета; в отдельной стопке получаемый из Парижа «Journal des débats» и Лейпцигский листок — дань давнишней, но непреходящей памяти об учебе в Лейпцигском университете. Университет — слабость батюшки. Прозвания известных и мало кому известных профессоров, наставников, адъюнктов и прочих служителей выговаривались им с подчеркнутою строгостью и изяществом, и поневоле запали в детскую душу так, как если бы он сам учился и общался с ними.
— Во времена царя Моабдара жил в Вавилоне молодой человек, по имени Задиг, прекрасные природные наклонности которого были еще более развиты воспитанием…
Батюшка многозначительно поднимал указательный палец с острым перламутровым ногтем, доверительно выговаривал:
— Вот-с, дружочек, вос-пи-та-ни-ем!..
— Да, батюшка.
Отец удобнее вытягивается на тяжелом кожаном диване, прихватив острым подбородком край шерстяного пледа, закрывает глаза.
— Хотя он был богат и молод, он умел смирять свои страсти…
Батюшка вдруг открывает тонкие, подсушенные веки и косит тусклым глазом на сына.
— Постигнув сие, ты сможешь быть не рабом, а господином страстей своих…
— Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехался над пустыми, бессвязными и шумными суждениями, грубым злословием, пошлым гаерством, невежественными мнениями и всей той шумихой слов, которая зовется в Вавилоне «беседою». Он узнал из первой книги Зороастра, что самолюбие есть надутый воздухом шар, из которого вырываются бури, когда его прокалывают…
…А охота! Косые стелющиеся тени прохладного солнца, распластанные пестрые клубки собак на зеленях, их срывающийся взвизг и откуда-то отчаянно-горячий крик батюшки: «Крути-и!» И вот он уже сам вылетел из мелколесья на своем огненно-рыжем Тристане, легко и красиво, будто в манеже, взял ручей и, припав к белой гриве, пошел жнивьем наперерез зверю…
А то видится ему Ревель. Тяжелый, древнего камня, подъезд обер-ландгерихта с железными фонарями и темною дубовою дверью с медной оковой. Батюшка входит не спеша, высокий и строгий, как бог, не глядя, сбрасывает на руки седого швейцара широкий плащ и не идет, а шествует, на ходу расправляя кружевные манжеты и поскрипывая высокими лаковыми сапогами…
Но чаще всего наплывал ветреный сумеречный час на сырой, взбитой лошадьми, февральской дороге. Он, счастливейший из смертных, приезжал в Ревель за родительским благословением: накануне было обручение с Аннет Малиновской. Батюшка, выйдя из санок, долго шел с ним рядом, не то держась за него, не то поддерживая его на осклизлых глянцевых сколках, оставленных широкими полозьями тяжелых извозчичьих саней. Потом поспешно обнял, ткнулся жесткой, потемневшей щекой куда-то ему под ухо, хлопнул по плечу: «Не забывай, сынок!..» — только и сказал.
Ему казалось, что он уже отъехал далеко, но, оглянувшись, увидел одинокую фигуру, которая, будто придорожная соломенная вешка, качалась и гнулась под ветром. Хотелось что-то сделать: встать, махнуть рукою, закричать… Но едва он привстал, как лошади рванули и понесли, и он, придавленный скоростью, упал в задок. А когда оглянулся снова, то позади уже никого не было, лишь грязные всклоки угасающей дороги и слабые, только что рожденные огоньки на башне ратуши…
О господи, если бы знать, что прощание это навеки!.. Если бы знать!.. Да, но как же жить тогда? Ведь мы и счастливы-то потому, что не знаем своего завтра!
До Сенатской площади оставалось двести восемьдесят девять дней!..
Андрей отнял от лица руку и глянул прямо перед собою в темную пустоту окна. Накатившийся откуда-то неприятный холодок заставил его съежиться и передернуть плечами. Он поспешно встал и задернул тяжелые, как одеяла, шторы. С некоторых пор он стал бояться… пустых окон. Точнее — с того памятного январского вечера, когда вот так же, как ныне, сидел он за этим же столом, переводил Сисмонди, его историю итальянских республик. Был тот полуночный час, когда казалось, что мир кончился, остановился, затаился в себе и ты остался с ним один на один. Наверное, это самые святые и самые чистые мгновения, когда и душа и мысли — все существо твое живет не в разорванном сомнениями и чувствами времени, а в некой абсолютнейшей гармонии мироздания, когда и ты не случайная, а необходимейшая частичка этого мироздания, когда без тебя нет и не могло бы быть этого мира: этой глубокой, с оранжевым звоном, тишины, и этого колеблющегося фиолетового света за окном, и такого близкого неба с сухими, будто потрескивающими на морозе, звездами!