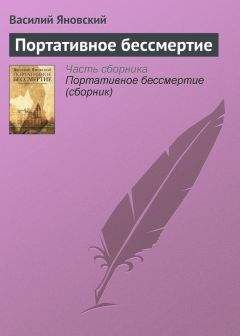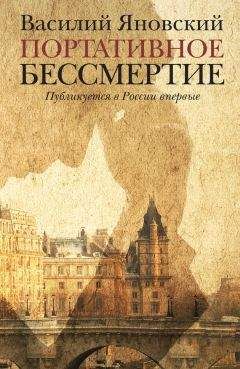Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Увы, Кнут умер рано, сразу после войны. Родители его болели раком; и первая жена, добрейшая, скромная женщина, скончалась от рака, оставив двух-трех сирот. Кнут уже тогда успел с ней развестись и, перепробовав разные комбинации, женился наконец на Ариадне Скрябиной – женщине колоритной и страстной.
Внезапно он получил субсидию на издание французско-сионистской газеты, и они зажили в роскошном особняке. Скрябина, дочь композитора, приняла еврейство, причем с таким «черносотенным» оттенком, что бывавший на Монпарнасе капитан единственного израильского учебного судна с отвращением зажимал уши, когда Ариадна начинала проповедовать и убеждать «иноверцев».
Рассказ об этой русской женщине был бы неполон без характерного эпилога: по слухам, она умерла в 1944 году на юге Франции, сражаясь с немецким патрулем.XI
Роль, которую играл во второй половине тридцатых годов «Круг», до того выполняли «Числа», а еще раньше «Зеленая лампа». Это все, разумеется, сменяясь, на стыках «эпох», перекрывало друг друга и не было строжайшим образом разграничено.
«Числа» возникли в результате стечения многих случайностей и объективных причин. Однако можно утверждать – без Н. Оцупа не было бы и «Чисел», то есть этих «Чисел».
В годы расцвета «Кочевья», под конец нэпа, ходил на эти литературные собрания некто Рейзини, молодой холостяк, краснощекий, упитанный, явно падкий на сладенькое, но со странностями и не без «запросов». Служил Рейзини у Hachette, бойко стучал по-французски и числился одно время в Сорбонне.
Не пойму, каким образом, но Рейзини встретился с И.В. Манциарли, женщиной эксцентричной, общавшейся с тибетскими мудрецами и питавшейся исключительно рисом и заморскими травами… Выяснилось, что Ирма Владимировна не прочь поддержать деньгами русский журнал.
Я с Манциарли сдружился в Нью-Йорке в разгар войны, когда мы вместе с Е. Извольской и Артуром Лурье издавали религиозный экуменический журнал «Третий час» на трех языках. Тогда Ирма Владимировна мне созналась:
– Я думала, они будут писать, как принято среди русских студентов, нечто светлое и честное, возвышенное и приятное… А там пошла сплошная собачья свадьба, до того неприлично, что даже знакомым нельзя было показать!
Мне стоило большого труда здесь, в Нью-Йорке, эон спустя, объяснить ей, что «Числа» были лучшим журналом эмиграции.
– Почему только эмиграции? – обижался Николай Авдеевич Оцуп. – Это, вероятно, лучший русский журнал вообще…
Рейзини повел переговоры с влиятельными лицами на Монпарнасе. В конце концов Адамович и Иванов поддержали кандидатуру Оцупа как хозяина журнала – и очень удачно! Так, Алданов выдвинул на положение редактора единственного зарубежного многомиллионного «чеховского» издательства – Веру Александрову, и очень неудачно.
В рекламах и даже, кажется, на обложке первого номера «Чисел» Рейзини еще значился редактором философского отдела; позже он совершенно исчез со страниц журнала. Чтобы покончить с ним, скажу, что вскоре у Гашетта вдруг обнаружился беспорядок в отчетности, причем самого нелепого характера: недоставали книги, иллюстрированные, роскошные! А на Монпарнасе Рейзини иногда после полуночи предлагал друзьям: хочешь эту книжонку? Бери, пожалуйста!.. И дарил художественные репродукции едва знакомым собутыльникам. Фельзена Рейзини почти заставил увезти домой энциклопедию попугаев в красках.
Между тем молодого и жизнерадостного холостяка потянули к судебной ответственности. Независимо от формального исхода дела ему как иностранцу и, пожалуй, нежелательному угрожала неминуемая высылка. И действительно, несмотря на сумасшедшую изворотливость Рейзини и на все услуги влиятельных друзей, молодому человеку пришлось оставить пределы благословенной Франции. Не помню, для какой надобности, но мы все однажды в редакции «Чисел», метро «Конвансион», собирали для него деньги, по-видимому, на неотложные нужды. Позже, в Нью-Йорке, поменяв лик и даже темперамент, Рейзини – владелец шахт и кинематографов – меня сторицей вознаградил за подаренную пятерку; это оказалось моим лучшим капиталовложением!
Итак, Оцуп стал единоличным редактором «Чисел» и повел себя весьма круто, прислушиваясь только к голосам таких обер-офицеров, как Адамович или Иванов.
Адамович был, разумеется, необходим для «Чисел». Поток возмущения и ревностных доносов, хлынувший в ответ на первые номера журнала, требовал заслона. Рецензии Адамовича в «Последних новостях», его участие в открытых вечерах «Чисел» и, главное, «Комментарии» в самом журнале отражали удары. В сущности, эти его статьи после прозы Поплавского и, может быть, Шаршуна – самое оригинальное и ценное в «Числах». Хотя за «Комментариями», как уверял Мережковский, стояла тень Розанова.
Однако почему Оцуп в такой же мере слушался и боялся Иванова, я не пойму; как я в свое время не мог объяснить влияние Иванова, и отнюдь не литературного порядка, на многих других молодых поэтов.
Случилось, что Одоевцева издала свой роман в английском переводе: ее в Лондоне, по-видимому, хвалили… Вот цитаты из этих отзывов супружеская чета собрала надлежащим образом и заставила Оцупа напечатать в конце одного из номеров «Чисел»: несколько страниц грубой саморекламы! Английское слово “genial” Ивановы очень скромно перевели «очень талантлива», приведя в скобках основной текст. Оцуп пробовал бороться, но почему-то в конце концов уступил.
То же по отношению травли Ивановым Сирина: «Числа» могли избежать такого тона в полемике. Впрочем, тут Иванову помогали многие честные и нечестные, стойкие и нестойкие литераторы и нелитераторы. Достойно внимания, что Адамович, прозу Сирина искренне порицавший (с позиций «Толстого»), в этой склоке, где ссылались чуть ли не на матушку Сирина, прямого участия не принимал.
Лучшее в «Числах» и, пожалуй, еще уцелевшее по сей день, кроме уже упомянутой прозы, надо считать стихи, стихи, стихи… Среди поэтов «аутсайдеры» типа Заковича или Дряхлова, может быть, переживут многих зарубежных «генералов» от литературы.
«Числа» были центром, куда каждый четверг пополудни стекались жаждущие отвлеченных истин и конкретных сплетен новые, многообещающие писатели. В маленькой квадратной комнатушке, rez-de-chaussée (в другие дни она служила конторою для каких-то странных дельцов, берлинских друзей Оцупа), в этой клетке сидели где кто горазд бывшие и будущие сотрудники журнала и болтали с кем придется. Поплавский пытался «завоевать» случайно завернувшего сюда Николая Набокова или Гершенкрона; страшный господин с неприличной бородкой читал вслух свой порнографический дневник, и Оцуп зорко следил за выражением лиц присутствующих, мысленно решая трудный вопрос: стоит ли это напечатать…
Я вдруг начинал доказывать, что для Толстого не «случайность», что брат Анны Карениной, Стива Облонский, – гурман и бабник!.. Поляк, кажется, граф Чапский, художник, публицист, входил в комнатушку сутулясь (он приехал с рекомендательными письмами от Философова) и говорил, пожимая каждому с одинаковым вниманием руку:
– Вы все здесь русские писатели, да?
Для интимной беседы с Оцупом надо было выйти в коридор – туда, к лестнице с лифтом, где нагромождение сюрреалистических балок, болтов и просветов вдохновляло.
Говорил Оцуп каким-то особенным басом: голос сугубо важный, сановитый, раскатистый… Его чересчур благородная, барская речь мне почему-то напоминала рассказы о шулерах, которые должны щеголять бельем голландского полотна и даже натуральными бриллиантами, иначе их в клуб не пустят. Это, разумеется, совершенно неуместное сравнение, но манеры, интонации Николая Авдеевича, весь его псевдовеличественный облик навевали на меня такого рода грустные мысли. Иванов с Поплавским любили повторять, как Блок однажды осведомился: «Что такое Оцуп?» И ему будто бы доложили: «Общество Целесообразного Употребления Пищи».
– Яновский, – снисходительно-важно, «бархатно» рокотал Оцуп у лифта, – поймите, «Числа» не могут платить обычного гонорара. Но если вам когда-нибудь очень, очень понадобится какая-нибудь мелочь, то приходите сюда, и я постараюсь вас выручить.
Кое-кому, то есть Иванову, Адамовичу и себе, он платил вполне приличные гонорары. Адамовичу, повторяю со слов Фельзена, Оцуп однажды сказал:
– Знаешь, Жорж, я пришел к убеждению, что статьи гораздо труднее писать, чем беллетристику, значит, оплата должна быть выше!
Часто приходили незнакомые или неинтересные люди, но всех их Оцуп умел как-то привлечь, использовать. Дамы уносили воззвания, где излагались цели «Чисел», и просили о поддержке. Меня Оцуп уговорил поставить свое имя на подписном листе – но неразборчиво.
– Так, чтобы можно было принять ваше имя за Яковлева.
Был такой знаменитый художник… Нелегкое дело – издавать лучший журнал в эмиграции.
Разумеется, он был рвачом, спекулянтом, но без этого «Числа» не продержались бы долго. Кто знает, как действовал бы Дягилев, не имея за собой старую, усадебно-купеческую Русь. Литература была стихией Оцупа, а вкус у него, вероятно, не хуже дягилевского.