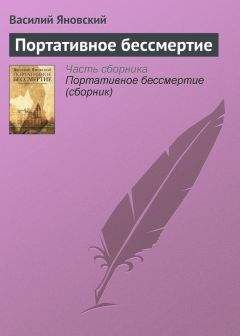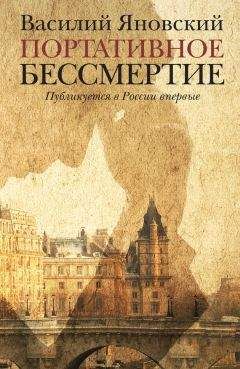Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Хозяин демонически сверкал своими толстыми стеклами. Не знаю, почему я завел с ним беседу о любви, о Боге, Христе и дьяволе. Крымов, радостно улыбаясь, спорил… Он утверждал, что человек, получивший высшее образование и трижды объехавший вокруг света, не может верить в воскресение из мертвых. Так жизнерадостный Гагарин, облетев трижды землю по орбите, заявил, что он нигде в космосе не заметил Бога.
На этом мы расстались, обменявшись, впрочем, нашими произведениями с вежливой надписью.
Позже, во времена выставки зарубежной литературы, мы с Фельзеном съездили к В. Крымову и уговорили его пожертвовать несколько сотен франков на первые наши нужды по транспорту и рекламе. Когда в Нью-Йорке я встретился с С. Прегель, то последняя, горько посмеиваясь, мне сообщила, что Крымов «заставил» ее вернуть несколько сотен франков – будто бы половину пожертвованной нам суммы! В этом пункте я безусловно верю Прегель.По выходе в свет одного плохонького романа Крымова Юра Мандельштам основательно выругал его в «Возрождении»… А Крымов примчался к нам на выставку с жалобой:
– Помилуйте, я помогаю союзу деньгами, а его члены меня шельмуют!
Болезненной фантазии Крымова представлялось, что отныне он купил, и весьма дешево, всю молодую литературу.
Цветаеву после этого эпизода у Крымова я обругал при свидетелях. Настроение у всех нас в течение целой недели было подавленное. Ширинский так описал общее состояние: «Точно мы все вместе выкупались в одной грязной ванне…» И это соответствовало какой-то истине.
В 1938 году из газет стало известно, что на границе Швейцарии убит агентами Сталина выдающийся троцкист, Рейсс, кажется. А затем из Парижа бежало несколько русских: Эфрон, муж Цветаевой, поэт Эйснер и чета Клепининых. Поскольку они все уклонились от французского суда и скрылись в Союзе, можно считать доказанной их причастность к этому мокрому делу.
Вскоре и Цветаева решила переселиться в царство победившего пролетариата, увозя с собой, разумеется, сына: дочь уехала раньше. Тут все выглядит безумием или глупостью: злодейства Сталина, социалистический реализм, муж – чекист, убийца… Ну, при чем здесь Цветаева? Можно ли было сомневаться, чем все это кончится для Марины Ивановны? И довольно скоро!
Перед отъездом Цветаевой я зашел к ней в отель где-то у метро «Пастер». Я «коллекционировал» подержанные кожаные куртки. А через Анну Присманову мне передали, что поэт хочет продать английскую куртку ее сына: мальчишка полный, тучный, существовала надежда, что куртка придется впору.
Итак, мы с Присмановой поднялись к Марине Ивановне в номер. Вещи уже были упакованы, и Цветаева не желала или не могла развязывать узлы.
Мы расстались без улыбки и без условных пожеланий: у меня слова застревали в глотке. Весь темный, как будто обугленный вид этого загнанного или одержимого, но гордого существа предвещал близкий и страшный конец. Полагаю, что она была тогда попросту больна, и если бы нашелся среди нас умный герой, достаточно привязанный к ней, то он бы силой удержал эту упрямую, несчастную, замечательную женщину от акта бессознательного харакири.
Присманова – всегда точно с флюсом: у фламандских художников попадались такие сухие, кривые, желтые женские лица на портретах, – Присманова осталась еще с поэтом наедине; догнала меня уже внизу и добросовестно похвалила стихи Цветаевой. Как будто стихи исчерпывают жизнь.
Остальное просто и ясно. Развязку можно было предвидеть. Я не знаю подробностей, но почему-то рисуется: вожжи, петля, русская конюшня… Кстати, перечитывая «Клару Милич», я всякий раз вспоминаю Марину Цветаеву.
Большие, «парадные» вечера – смотры парижской литературы – обычно устраивались в зале Географического общества (метро «Сольферино»)… Туда еще стекались эмигранты времен Герцена и Мицкевича. Там же Адамович давал свой «бенефис» и, чтобы заинтересовать публику, приглашал для участия в прениях Керенского или Мережковского. Помню сводный франко-русский диспут с Андре Жидом после его поездки по советской России (когда возмущенная молодежь кричала Мережковскому: “Cadavre! Cadavre!”)
Лекции «Современных записок» тоже связаны с этим помещением; и Фондаминский по привычке его снимал для всех людных собраний – например, когда Сирин читал в Париже.
Последнего большинство из нас увидали именно там, на эстраде. Я пришел явно с недоброжелательными поползновениями; Сирин в «Руле» печатал плоские рецензии и выругал мой «Мир».
В переполненном зале преобладали такого же порядка ревнивые, завистливые и мстительные слушатели. Старики – Бунин и прочие – не могли простить Сирину его блеска и «легкого» успеха. Молодежь полагала, что он слишком «много» пишет.
Следует напомнить, что парижская школа воспитывалась на «честной» литературе. Что, разумеется, похвально, если за писателем имеются еще другие бесспорные заслуги. Но «честность» в Париже одно время понимали очень упрощенно, решив, что это исключает всякую фантазию, выдумку, изобретательность. Обвинять только Адамовича в этом не следует: он дал первый толчок, остальные уже докатились до абсурда самостоятельно.
Ссылались главным образом на Толстого, забывая, что у него мерин по ночам рассказывает жеребятам свою биографию, а заодно и сложные похождения барина… Какая, в сущности, неудачная «форма».
Сирин в области «выдумки» шел из иностранной литературы и часто перебарщивал, наивно полагая, что в каждом романе должен быть «фокус», ребус, подлежащий разгадыванию…
Читал он в тот раз главу из «Отчаяния», где герой совершенно случайно встречает свое «тождество» – двойника. Тема старая, но от этого не менее злободневная. От «двойника» Достоевского до «Соглядатая» того же Сирина всех писателей волновала тайна личности. Но, увы, публика кругом, профессиональная, только злорадствовала и сопротивлялась.
Для меня вид худощавого юноши с впалой (казалось) грудью и тяжелым носом боксера, в смокинге, вдохновенно картавящего и убедительно рассказывающего чужим, враждебным ему людям о самом сокровенном, – для меня в этом вечере было нечто праздничное, победоносно-героическое. Я охотно начал склоняться на его сторону.
Бледный молодой спортсмен в черной паре, старающийся переубедить слепую чернь и, по-видимому, даже успевающий в этом! Один против всех, и побеждает. Здесь было что-то подкупающее, я от всей души желал ему успеха. И это несмотря на то, что у Сирина рядом с культурой писателей уровня Кафки и Джойса уживается и… пошлость Викки Баум.
Увы, переубежденных после этого вечера оказалось мало. Стариков образумить невозможно, хоть кол теши у них на темени. Проморгал же Бунин и Белого, и Блока. Поэтам же нашим вообще было наплевать на прозу; они вели тяжбу с Сириным за его стихи, оценивая последние в духе виршей Бунина, приблизительно.
А общественники в один голос твердили: «Чудно, чудно, но кому это нужно…»
Так, однажды на собрании «советских студентов», в том же зале Лас-Каз, выступали московские писатели… Федин, холодноватый, вежливый, немного похожий манерами на Фельзена; Всеволод Иванов, хитрый, осторожный мужичок, со смачным русским говором; Тихонов – солдат из своих баллад; Киршон – с толстой бурой шеей, больше всех партийно озабоченный и вскоре расстрелянный; подловатый Эренбург, Бабель, по внешности, краскам и дикции похожий на Ремизова и на Жаботинского. После их чтения или докладов позволялось подавать записки с вопросами; и я неизменно осведомлялся: «Что вы думаете о зарубежной литературе?»
Бабель ответил совершенно честно:
– Тут некоторые пишут чрезвычайно ловко, даже с блеском. – Все поняли, что речь идет о Сирине, печатавшем тогда свое «Приглашение на казнь». – Но к чему это? У нас в Союзе такая литература просто никому не нужна.
Вот традиционный сволочной критерий. Очень скоро сам Бабель со своими фаршированными закатами оказался в нужнике!
Когда Сирин переселился во Францию, Фондаминский, любивший преувеличивать, зловеще нам сообщил:
– Поймите, писатель живет в одной комнате с женою и ребенком! Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как орел, и стучит на машинке.
Этим, конечно, нас нельзя было удивить: у многих в Париже и уборной своей не было. Мне это напомнило англичан, восхищавшихся подвигами Ганди, когда он питался только козьим молоком и лимонным соком… Мне индусы говорили, что по их условиям жизни молоко и лимон огромная роскошь: миллионы туземцев жуют только дюжину зерен риса в день. Кстати, один тибетский старец упрекал даже Махатму за то, что он позволил себе вырезать аппендикс, считая хирургию блажью и снобизмом.
После «Приглашения на казнь», которое мне очень понравилось, я сказал Набокову за чаем у Фондаминского:
– А ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки.
– Я никогда не читал Кафку, – заявил в ответ Набоков и хотел еще что-то прибавить…
(Но в это время, одетый в парусиновые туфли и легкий макинтош, к нам приблизился Сирин, и Набоков отвернулся.)