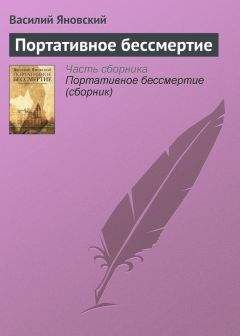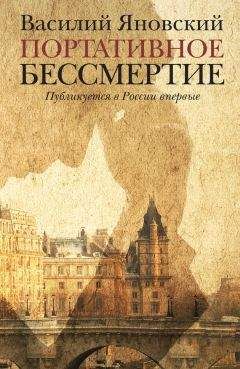Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Увы, нигде снобизм, чинопочитание, местничество не развиваются так безобразно-болезненно, как в безвоздушной, беспочвенной среде, лишенной реального, казенного пирога. Смуты, дрязги, интриги, споры, конечно, ужасные грехи, знакомые еще ветхому Адаму (во всяком случае, его сыновьям), но противнее всего склока там, где совершенно нет разумных причин для какого бы то ни было соревнования… Именно в царстве грез осуществляется самый жестокий бой – китайских теней на стене.
Исключительную роль в жизни зарубежной словесности сыграли «Последние новости». Хотя бы потому, что мы все сотрудничали в них. А четверговые статьи Адамовича создавали подлинную литературную атмосферу.
«Последние новости» под редакцией Милюкова были, разумеется, политическим, демократическим органом; естественно, что беллетристику, поэзию они представляли себе только как род приманки для дикого читателя, сироп, коим подслащивается горькая хина общественных истин. Так это и было одно время: Бунин – символ лучшего прошлого, затем Алданов, Саша Черный, Дон-Аминадо, переводной полицейский роман, все, что полагается для успешного ежедневного издания.
Но так велик был нажим все растущей молодой западнорусской литературы, что постепенно условные барьеры оказались сметены. В первую очередь «прошла» поэзия: от Поплавского до Терапиано, от Червинской до Кнорринг. Но постепенно почти вся наша проза тоже завоевала там себе место. Даже в статьях «Последних новостей» замаячили религиозные имена и темы. Павел Николаевич только неуклонно заменял повсюду выражение «отцы церкви» словами «древние мудрецы»: так ему казалось приличнее. Впрочем, такие слова, как «благодать» или «первородный грех», он попросту вычеркивал.
Приноравливаясь к этому неоэзопову языку, в газете могли сотрудничать даже умеренные обскуранты. Однако Мережковского и ему подобных Милюков так и не подпустил близко, чувствуя своим широким толстовским носом запах не только апокалиптической серы, но и крупповских печей.
Гиппиус долго вела подкоп, стараясь одна, без мужа, проникнуть в «Последние новости». Алданов, не отказывая открыто в помощи, говорил:
– Всем покажется странным такой литературный развод.
– Она будет писать вещицы вроде тех, что Тэффи дает в «Возрождении», – убеждал Алданова Дмитрий Сергеевич.
Впрочем, и Бердяев не сотрудничал в газете; на большом собрании последний весьма толково распространялся по поводу дьявола в связи с деятельностью большевиков… И Милюков насмешливо заметил, что Бердяеву, вероятно, хорошо знакома сущность князя мира сего, если он так авторитетно о нем высказывается. Это почему-то обидело философа.
– Мне этого не нужно, – с достоинством объяснял Бердяев. – Меня охотно печатают в других изданиях.
Но газеты «своей» он не имел. И Федотову там не было места. Коротко говоря, профессиональным христианским мыслителям, за исключением одного Мочульского, кажется, ход к Милюкову был затруднен.
Это верно по отношению к «старикам»; молодые же уже с середины тридцатых годов могли, соблюдая известные цензурные правила, печатать в газете свои самые характерные произведения, хотя бы по чайной ложке!
«Последние новости» тогда расходились по всем углам зарубежья. Авторитет Милюкова ставился высоко не только либеральными эмигрантами, но и многими влиятельными иностранцами. Передовицы Павла Николаевича читали на Quai d’Orsay, и газета в какой-то мере влияла даже на реальную политику.
Постоянный сотрудник «Новостей» мог добиться анемичной славы чуть ли не на пяти континентах. Поэтов перепечатывали безвозмездно в рижском «Сегодня» и в нью-йоркском «Новом русском слове». По поводу прозы, как я уже писал, провинция имела собственное мнение и в нашем творчестве отнюдь не нуждалась.
Кроме чести и славы была еще одна причина, почему мы все подходящее таскали в редакцию «Последних новостей». Гонорар!
В нищей Европе очень расчетливый, даже скупой Милюков так поставил газету, что она приносила завидную прибыль. Главной статьей дохода, как полагается в периодической печати, являлись объявления. Те объявления, о которых Дон-Аминадо писал: «За право пользоваться ванной / Даю уроки фортепьяно».
Ближайшие сотрудники газеты участвовали даже в дележе добычи; кроме того, у них имелась великолепнейшая касса взаимопомощи. Что же касается «случайных» сотрудников, то для нас был установлен минимум гонорара, которому могли бы позавидовать многие туземные литераторы. Короче говоря, труд в газете оплачивался, хорошо оплачивался.
Я начал, кажется, с 75 сантимов за строчку и вскоре перевалил за франк. А за франк, даже блюмовский, еще можно было купить livre [91] хлеба или литр вина; флакон духов или бутылка шампанского – 25 франков. При даровой или чудом оплаченной комнате, один подвал в газете давал уже возможность протянуть целый месяц. Ничего равного ни одна русская газета даже в щедрой и богатой Америке никогда не предоставляла своим писателям.
Поневоле заскучаешь если не по передовицам Милюкова, то по его умению прибыльно и честно вести коммерческое дело.
Редакция в тридцатых годах располагалась у метро “Arts et Métiers” на втором этаже. Первая «комната», проходная, без окон, с вечной электрической лампочкой, на стене распределительная доска с телефоном… Ладинский, дежурный, между болтовней с посетителем и работой над собственным фельетоном отрывисто, но исчерпывающе отвечал на очередной звонок, соединяя просителя с конторой, метранпажем, кассиром.
Так в этом чулане и дома по вечерам Ладинский даже ухитрился написать кроме своей лирики два романа из римской и византийской жизни.
Антонин Петрович – прапорщик Первой мировой войны; после гражданской заварушки эвакуировался с юга и застрял в Каире, где подучился английскому языку, так что иногда даже переводил очередную главу полицейского романа для газеты.
Ладинский писал лирические очерки, проникнутые ностальгической любовью к своему детству и родному Пскову; впрочем, его волновала также и «медь латыни». Как многие из служивого или чиновничьего сословия, он был кровно связан с «Империей», «великой державой», Дарданеллами, исконными границами – все глубже и дальше – и прочими атрибутами чувственного патриотизма. Разумеется, Антонин Петрович стоял за свободу личности, за ее юридические права, за ограничение государственного произвола – одним словом, за Павла Николаевича Милюкова. Но все это потом, когда границы империи будут на все сто процентов обеспечены, а национальные интересы защищены.
В пору советско-финской бойни Ладинский, писавший одухотворенные неоромантические стихи, из кожи лез в «Круге», оправдывая стратегию Шапошникова, уверяя, что нельзя оставить в «такое время» Ленинград под дулами выборгских орудий…
Надо ли удивляться, что эти верные сыны великодержавной России после трудной победы Красной армии взяли советский паспорт. Ладинский, как и Софиев, даже честно поехал в Союз, где он недавно отдал Богу душу. Империализм в истории соблазнял мужчин больше, чем бабы, карты и вино, вместе взятые. А в Библии он среди смертных грехов не числится.
От Ладинского осталось два-три прелестных стихотворения, но интересного разговора с ним не получилось. Высокий, худощавый, несколько северной (шведской) внешности, но с русским красным, армейским, носом, он в ту пору напоминал Тихонова – тоже романтического поэта и солдата.
Ладинский жил исключительно литературным трудом, если считать обязанности телефониста в редакции тоже прикосновением к отечественной словесности.
Меня удручала эта приемная без окон, с вечным электрическим сиянием. От скуки мы сплетничали. Об одном шумном литераторе Ладинский несколько раз так выразился:
– Если бы у меня была его энергия, то я бы сидел не здесь у телефона, – тут он обычно оглядывался по сторонам и понижал голос, – а там, в кабинете редактора.
Чем бы Ладинский ни занимался: телефон, перевод бульварного романа, очерк или стихи – всюду он проявлял одну и ту же «органическую» добросовестность, характерную для русского мастерового, труженика, пахаря и солдата. Существует прочно утвердившаяся легенда о национальной распущенности, о русском «авось» да «кабы», «пока», «как-нибудь»… Неаккуратность, темнота, анархизм, халатность, грубость, даже бесчестность, в сочетании с бунтом, богоискательством и жаждой абсолютной «правды». Может быть, это реально для разночинца, студента, кулака, босяка, не знаю. Но есть другая особенность, универсальная – стоять «до конца» при любых обстоятельствах, даже в николаевском Севастополе, выпускать из своих рук только совершенно исправный продукт, завершенный, отделанный, независимо от рентабельности. Это черта мастера, артизана, художника, Левши, врача, преподавателя, публициста, свойственная одинаково и Розанову, и Чернышевскому, и штабс-капитану Тимохину. Такого рода тяга к совершенству «товара», одинаковая у мужиков и интеллигентов, мне кажется, до сих пор еще не была должным образом отмечена… А в классических трудах описываются в первую очередь легендарная лень, расхлябанность, безграмотность, водка, бунт и жажда немедленной соборной «справедливости». Здесь какая-то неувязка.