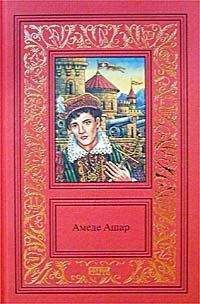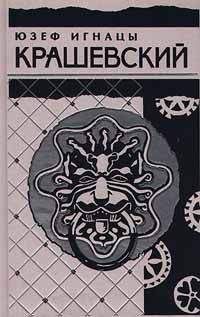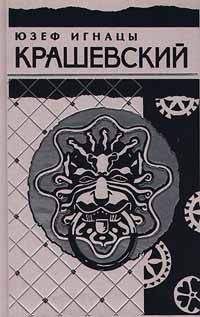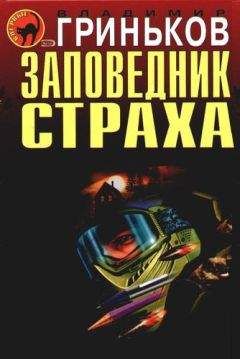Павел Шестаков - Омут
— Нам было бы плохо?
— Ужасно! Просто ужасно. Мы были бы рабами, прикованными к галере. Безо всякой надежды спастись, бежать с каторги…
— Куда?
— Куда угодно. Послушай! Ведь все, что советует мама и этот Воздвиженский, полная чушь. Приспособиться? Влачить жалкое существование париев, илотов? Ни за что! Послушай! Это мое последнее слово. Есть возможность получить большие деньги. Большие!
— Да зачем они нам? Лавку заведем?
— Нет! Не лавку. Ты только послушай и пойми! Здесь нечего делать. Это все безумно. Большевистская затея… она безумна!
Юрий так разгорячился, что сам походил на невменяемого.
— Народ так не думает.
— Да, народ поверил, и в этом трагедия. Ее нужно пережить. Если мы будем богаты, мы сможем перебраться за границу. И там переждать. Понимаешь, переждать несколько лет, пока безумие пройдет, пока народ повяжет сумасшедших.
Таня слушала тихо. Мысль сказать о ребенке уже прошла. Ее нельзя было доверить этому человеку с лихорадочным блеском в красивых и неумных глазах.
«Только мой ребенок, только мой…»
— Вы все ничего не понимаете. Даже Максим…
— Я и не хочу больше ничего понимать. К черту политику! Я говорю о деньгах.
— Кто же тебе даст деньги?
Она сказала и тут же пожалела о своем вопросе. Зачем ей это? Никуда бежать она не думала. Она не могла дважды предать своего ребенка.
— Я возьму их сам. Ты только должна поверить.
— Это совместимо с твоими принципами? Убеждениями?
— Я не приемлю этой жизни. Вот главный принцип.
— А совесть? Это чистое дело?
— О какой чистоте можно говорить после семи лет войн!
— Ах, вот что… И ты можешь… способен взять… чужое. Ограбить, может быть, или убить?
— Не смей! Не смей так говорить со мной. Ты истерзала всю мою молодость своими требованиями, претензиями.
— Наверно, ты прав по-своему. Я не хотела. Мы разные люди, и ребенок не мог принести нам счастья.
— Счастья нужно добиться.
— Поступай, как находишь нужным.
— А ты? Ты оставляешь меня?
— Жизнь нас разводит.
Он схватился за голову:
— Но почему? Столько лет…
— Всему на свете есть предел. И любви, и страданию.
— Больше тебе сказать нечего?
— Спаси тебя бог, Юра.
Последняя нитка оборвалась, и боль сразу притупилась.
* * *В булочную Юрий пришел вскоре после ухода Техника, спустился в подкоп, повозился там немного — днем они не работали — и поднялся, закапав ладонь стеарином.
— Помойте, — предложила Софи, — я солью вам.
И набрала воды в кружку.
— Мы почти у цели, — сказал он, намыливая руки.
— Какой цели, Юра? Вы верите в победу?
Он выпрямился и взял полотенце.
— Если честно, я начал сомневаться. Народ ослеплен.
— Вы по-прежнему любите народ?
— Я верил в народ, как в святыню. Но теперь, когда народ смирился с большевиками, породил новых обывателей…
— А мы сидим в норе…
— В норе?
— Вчера тут по полу бегала крыса.
— Вы испугались?
— Нет. Мы посмотрели друг на друга, и она ушла. Может быть, она пожалела меня.
— Не говорите так. Нам нужна сила духа.
Он машинально провел пальцами по щеке и вспомнил, что два дня не брился.
— Я, кажется, зарос. Знаете, у меня было объяснение…
— С кем?
Юрий не нашелся, как назвать Татьяну.
— С вашей невестой?
— Она мне не невеста.
— Вы поссорились?
— Больше того.
— Расстались? Неужели расстались? Почему?
— Зачем я ей? Она из рабочей семьи. Они будут строить социализм.
— Но вас так многое связывало.
— Даже ребенок. У нас был ребенок. Он умер. Кощунственно говорить так, но это случилось к лучшему.
— Не говорите!
— Почему же не говорить правду? Все было. Все. Пасха, аромат южной ночи. Белые акации. Чистый мальчик, влюбленный первый раз в жизни. Гимназистка в белом фартуке, нежная и строгая. И ничего больше нет — ни девушки, ни ребенка, ни любви…
Он снова провел пальцами по щеке.
— Жаль, что нет бритвы. Бритва — незаменимая вещь. Можно вскрыть вены, вспороть врагу живот или побриться…
— У меня есть бритва.
Софи достала продолговатый футляр с золингеновской бритвой.
Юрий потрогал лезвие:
— Прекрасная сталь. Остра, как… бритва. Нужен еще кипяток.
— Я поставлю на спиртовке.
— Спасибо. У вас все есть. Может быть, и для меня глоток спирта найдется?
— Конечно.
— Выпьем вместе?
— Иногда я позволяю себе снять тяжесть с души. Хоть немного.
Она согрела воду и достала флакон с притертой пробкой.
Юрий присел к маленькому столику, на котором стояло зеркало, и провел помазком по щеке.
— Не порежьтесь. В комнате довольно темно.
— В окопах приходилось бриться и ночью. Особенно перед боем. Ведь бой — как любовь. В гробу и с женщиной нужно лежать чистым.
— Только не в гробу! — воскликнула она, вспомнив весну и глухой стук там, внизу, куда опускались веревки могильщиков.
Юрий провел полотенцем по щеке.
— Софи!
— Не говорите ничего, не надо! Пейте…
Он положил бритву на столик и выпил.
— Если бы я встретил вас раньше!
— Раньше мы принадлежали другим..
— Неужели… поздно?
— Все ушло…
— Нет. Не может быть. Может быть, осталось… немного… счастья… для нас…
Она очнулась и не поверила.
— Это ты? Со мной? Мой? — шептала она с закрытыми глазами, осторожно касаясь его лица, рук, плечей. — Значит, не все ушло? Осталось… для нас?
Он привлек ее и положил ее голову себе на грудь.
— Какое счастье слышать, как бьется твое сердце.
В зашторенной комнате было полутемно. На столике тускло светилась бритва, которую Юрий не успел сложить в футляр. В полу чернела яма погреба.
Постепенно реальность вернулась.
— Мне страшно смотреть в это подземелье.
— Осталось немного, Соня.
— Он убьет нас, эта мразь. Он даже товарищей выдал чекистам.
— Значит, мы должны убить его раньше.
— Раньше нельзя. Он приведет человека, который может вскрыть сейф… медвежатника. Мы сами не сможем.
— Значит, убьем потом.
— Ты сможешь?
— Я же солдат.
— Я тоже, я смогу, если мы будем вместе.
— Нас никто не разлучит.
— Никогда?
— Никогда.
— Только бы вырваться. Но придется пролить кровь. Еще раз. Сейчас мне это отвратительно. Хотя это и не человек.
— Это будет в последний раз. Мы перешагнем через это и… и очистимся. Отдадим эти побрякушки и уйдем…
— Отдадим?
— Конечно, отдадим. Ведь это не наше, это чужое, грязное, в крови… — Юрий приподнялся в кровати. — Но кому это принадлежит? Прежних владельцев уже не разыщешь, большевики не владельцы. Ну а кто следующий? Пусть не Техник. А кто лучше? Те, кто сожжет все это в бенгальском огне проигранной войны? Или промотает в кабаках, там или тут, какая разница!
— Что ты говоришь! — прошептала она, понимая, о чем идет речь.
— Почему же не наше? Почему не мы? Мы, которые, как кроты, ползут под землей, чтобы сунуть руки в огонь и выгрести жар, кому?!
— Нет.
— Да! Да! Это я тебе говорю, твой муж, не по бумажке, которую нам выдали, а перед богом.
— Ты… мой…
— Да, Соня, да. Жизнь невыносима и беспощадна, и мы погибнем, если ничего не сделаем для себя. Мы обязаны. Я обязан. Перед тобой…
— Но придется…
— Я готов на все. Для тебя. Или вместе выживем, или вместе погибнем.
— Ты обезумел!
— Пусть! Все рухнуло, все священные своды. Потоп… Волны захлестывают и несут неумолимо. Так будем вместе до конца… До Арарата.
Она хотела сказать, что волны несут их не к чистой вершине, а в темный омут, но не сказала.
— О, Юра…
На время они снова обо всем забыли, а когда пришли в себя, у нее больше не было сомнений.
— До Арарата или до смерти, любимый…
До смерти Софи оставалось меньше двух часов. А пока она встала и направилась к Барановскому, чтобы узнать все подробности его ближайших намерений.
Юрий остался и незаметно для себя задремал…
Техник отпер дверь своим ключом, вошел, огляделся в тишине и увидел Юрия в постели.
— Спишь, милый? — спросил он и почувствовал, что не владеет собой.
Юрий протер глаза и улыбнулся:
— Устал.
— Ты, кажется, выполнял супружеские обязанности?
Юрий нахмурился:
— Попрошу без пошлостей.
— Значит, и тут меня околпачивали…
— Что это ты?.. Я прошу объясниться.
— Да, пора. Сейчас ты мне объяснишь…
И Техник вытащил пистолет.
— Что с тобой?..
— Молчать! Спрашиваю я. Где твоя белогвардейская шлюха?
— Не смей! — криком на крик ответил Юрий.
А Техник перешел на шепот:
— Я все смею. Я уже преступил все, что мог… И вы, дерьмо, меня… водить за нос? Встань, гнида!