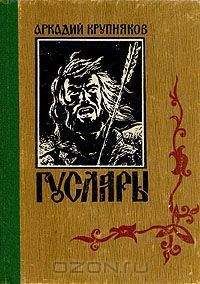Наталья Султан-Гирей - Рубикон
Март, солнечный и теплый, принес весну. В долинах зацвели сады. На полянках появились первые цветы, голубые перелески. В Альпах началось таяние снегов. Лавины то и дело скатывались с перевалов. Разрыхленные дороги стали еще опасней, чем в зимние бури.
Антоний, загнанный в Цизальпинский треугольник, между двумя морями и горным хребтом, попал в западню. Он осаждал запершегося в Мутине Децима, а его собственные легионы оказались в кольце когорт Октавиана. Из Рима на помощь императору спешил Вибий Панса с двумя легионами.
Агриппа в палатке чистил меч, пробовал лезвие на волос, хмурился и напевал под нос: "Так уж лучше умирать на глазах у милой..." Расчувствовавшись от собственной песни, он вздохнул:
— Так, что ли, друг?
Нежась у огня, Октавиан лукаво улыбнулся:
— Не знаю.
Агриппа еще раз вздохнул и снова, занялся мечом.
— Если Мешок сам станет руководить боем, не испугаемся. Марк Антоний многое перенять может, даже гениальный маневр повторить сумеет, но ведь надо самому чувствовать, что к чему, а этого он не может. Туп. Я боюсь Люция Антония — умен, зол и смел. Подумать не могу, что с тобой будет, если меня убьют!
— Не говори "убьют"! — Октавиан кинулся к нему. — Скажи "не убьют"!
— Кто знает? Головы, конечно, не подложу. На всякий случай запомни: паду — доверься Гирсию. Больше никому не доверяй. Отступайте за Альпы. В Галлии помнят Цезаря и поддержат его сына. Ветераны спрячут тебя. Не пытайся вернуться в Рим. Антоний долго не продержится. Тогда ты, как избавитель от смут, явишься со свежими легионами.
В очаге догорало пламя, и длинные тени ходили по пологу палатки. Где–то в прохладной сырости по–весеннему звонко квакали лягушки.
— Я верю тебе, — пробормотал Октавиан, засыпая. — Ты победишь?
— Да. Только обещай весь бой, пока опасность не минет, стоять у знамени, вне полета вражьих стрел. Преторианцы Мария Цетега будут охранять тебя.
— Чтобы мои легионеры сказали, что их император трус? — Октавиан от возмущения даже вскочил. — Никогда!
— Ах, вот как! Ты хочешь, чтоб весть о твоей доблести на час пронеслась в веках, а мы были бы разбиты наголову? Я не могу руководить боем, когда ты вертишься под ногами. — Агриппа притянул приятеля к себе. — Пожалей меня, ведь завтра первый мой бой. И с кем? Один, без опыта, без легатов, Гирсий дряхл, Тит Статилий мальчик, сенатские вояки — враги заплечные. Кукла, пожалей меня. Сделай, чтобы я был спокоен! Обещаешь?
— Слово императора. А ты победишь?
— Обязательно, раз душа будет спокойна.
Агриппа погладил вздрагивающие плечики своего повелителя.
— Спи, Кукла, все будет хорошо.
Он не хотел, чтобы Октавиан догадался, как его старший друг боится завтрашнего боя.
Император, уцепившись за руку своего полководца, уснул. Агриппа осторожно разжал его пальцы и, высвободив руку, вышел из палатки.
Звезды гасли. Ночь выцветала, и в небе уже смутно наметились серые громады Альп. Далеко над поймой мерцали желтоватые точки — огни противника. В предрассветных сумерках легат обошел весь лагерь, потолковал с легионерами, проверил слабые центурии, без конца заклинал Мария Цетега хорошенько охранять императора.
— Понимаешь ли, центурион, как драгоценна жизнь сына Цезаря для всех нас? Для всей Италии? Вы пойдете в обход, а мы примем весь удар на себя.
Марий Цетег кивнул. Молодой полководец нервничал, это плохой признак. Дивный Юлий всегда был божественно спокоен.
VII
Рассвет был хмур. Болотные испарения затягивали солнце. Альпы потонули в тумане. На узкой дороге, бегущей меж камышей, темнели лужи от недавнего дождя. Солдаты шли молча. Под ногами хлюпало.
— Хуже не придумаешь! Так и жди засады! — Марий Цетег замедлил шаг. Камыши мешали видеть даль, и клубящийся меж ними туман усиливал жуть. Наконец мелькнула прогалина. Центурион повеселел.
— На открытом месте врасплох не нападут. Отдохнем. Устал, Бамбино?
Октавиан страдальчески вздохнул, взглянул на него, но ничего не ответил.
Внезапно из–под прикрытия камышей отделилась темная зыбящаяся линия. Преторианцы безотчетно сомкнулись плотней. Шаг стал тверже и тяжелей.
Враг приближался. Старые солдаты узнавали многих товарищей. Вместе побеждали в Британии, Иберии и Африке. Но ни одно проклятие не сорвалось. Ждали молча. И враги подходили в молчании. Сойдясь, выхватили ножи. Преторианцы Октавиана мстили за казненных в Брундизии. Воины Антония карали отпавших от друга Цезаря в угоду несмышленому ребенку.
Бились один на один, не сходя с мест, увязая по колено в трясине.
Преторианская когорта таяла, между императором и вражьими воинами осталось всего три ряда. Марий Цетег велел самым испытанным сдерживать линию боя. Остальные встали цепочкой до самых плавней, где вода уже заливала камыши. Цетег схватил мальчика и передал стоявшему в цепи преторианцу. Тот быстро швырнул другому. В начале цепи уже бились, но те, что стояли в глубине, передавали Октавиана с рук на руки все дальше и дальше. Последний в цепи перенес наследника Цезаря через протоку и опустил на твердый песок.
— Прощай, Бамбино. — Солдат поцеловал мальчика и вернулся к товарищам.
Бой продолжался в полном безмолвии и с прежним ожесточением. Изредка вырывался стон тяжелораненого, клокочущее хрипение умирающего, но трупов не было видно. Их засасывала трясина. Лишь острия мечей и копий поблескивали между кочками.
Стоя на песчаной косе, Октавиан глотал слезы. Озябшими пальцами старался расстегнуть ремни на доспехах, но руки плохо слушались. Наконец император избавился от своих регалий. Прополз несколько шагов, вздрагивая, прислушался. Никто не преследовал. Бамбино вскочил и побежал. Натыкался на кустики, падал, поднимался и снова бежал.
Трясина осталась позади. В лунном свете вставала насыпь. Задыхаясь от бега, юноша вскарабкался на дорогу. Размазывая слезы по лицу, побрел. Один, один, вся его гвардия мертва! Знал их с детства, вырос на их руках, а теперь они мертвы. Пали, спасая трусливого мальчишку! Но стыд, жалость, страх — все тонуло в горьком чувстве беспомощного одиночества.
В придорожном озерке крякнула утка, насмерть перепугав беглеца. Октавиан рванулся и снова побежал изо всех сил. Уже предутренняя дымка поднималась над лугами. На повороте показались расплывающиеся силуэты всадников. Впереди мощный, широкий. Наверное, сам Антоний!
Октавиан скатился в ров и в ужасе забился в лопухи.
Всадники подскакали. Их голоса звенели над самой головой. Говорили на южных наречиях. Пиценский акцент, голос Агриппы... Император стремительно выскочил из засады. Скользя по мокрой насыпи, карабкался на четвереньках. Сильвий схватил его за шиворот и вручил Агриппе.
— Где твои преторианцы?
Октавиан робко показал в сторону болота:
— Все до одного. Я не сам... честное слово... Меня отнесли... Они велели...
— Жаль людей, да что с тебя спросишь? Ты не виноват...
Агриппа торопливо рассказал, как Вибий Панса спешил на выручку преторианской когорты. Люций Антоний перехватил его и разбил наголову. Сам Панса смертельно ранен. Победители уже возвращались с песнями, но Гирсий и Агриппа нагнали их и уничтожили. Остатки рассыпались по лугам и болотам. Однако главные силы Антония целы и не потрепаны боем.
— А моя претория... — Октавиан испуганно замолчал. Традиции повелевали, чтобы полководец, потерявший в бою своих воинов, бросился на меч, иначе неудачнику грозил несмываемый позор. Но императора никто не упрекал. Ни одному из ветеранов Цезаря не приходило даже в голову требовать доблести от ребенка, которого добрая половина их помнила в пеленках. Император Октавиан Цезарь был для них не вождем, а живым знаменем. Преторианцы пали, но знамя, а значит, и честь спасены. Радость, что их божок вернулся живым, смягчала скорбь по товарищам. Друзья погибших готовились жестоко отомстить. Этруски и самниты в легионах Октавиана дали клятву: за голову каждого убитого земляка принести подземным богам три вражьих жизни. "Квириты заплатят!"
VIII
Альпы зажглись утренним пожаром. Фиолетовый пурпур горных склонов, золотистость перистых облачков, кричащие ярко-красные тона вершин сливались в торжествующий гимн.
Император объезжал легионы. Весь розовый от утренней свежести и отблесков восхода, он манерно салютовал. Выгоревшая на весеннем солнце челка победоносно развевалась.
— У нашего рыжика хвост кверху, — шепнул молодой легионер соседу. — Уверен!
— Он храбрец! — отозвался другой новобранец. — Я сам видел, при переправе он хотел первый прыгнуть с обрыва, но Агриппа перехватил, а то б кинулся с самой кручи!
Октавиан осадил лошадку и, вскинув руку в воинском привете, напомнил детям Италии, квиритам, латинянам, самнитам, этрускам, вольскам, пиценам, калабрам и цизальпинцам, о великих целях их борьбы. Вставил несколько этрусских слов и самнитских пословиц, выразил уверенность в непобедимости своих легионов и кончил речь славословием в честь их общей матери Италии и их отца Дивного Юлия.