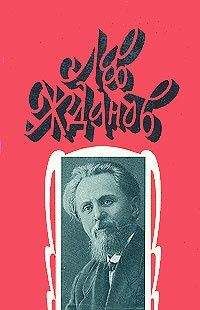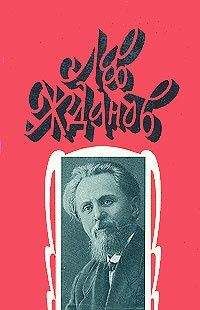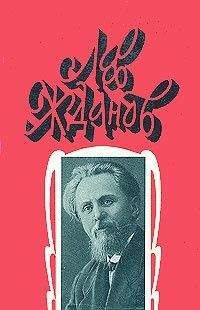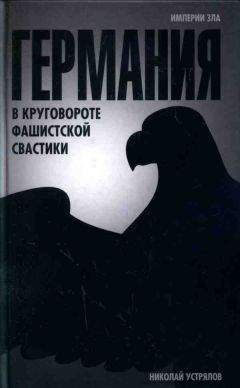Роман Литван - Мой друг Пеликан
Малинин, заливаясь кровью, ничком рухнул на поверженного Надария, который, кажется, начал в этот момент оживать.
«Скоты! что делают!..» Володя попытался пробиться к нему на помощь, действуя только правой рукой, но когда противник обхватил его за шею и сдавливая начал гнуть книзу, он каждым своим позвонком ждал и чувствовал убойный чугунный удар по своей спине: теперь их было трое против одного. Считая Надария. А он успел увидеть, что тот поднялся, пнув ногою бесчувственное тело Малинина. Володя в согнутом положении дотягивался и старался бить кулаком в грудь и живот противника. Все труднее становилось удерживаться на ногах — нежные хрящи шеи были стянуты жестким захватом, от этого мутилось сознание, и ноги сделались нетвердыми и ломкими.
И вдруг его отпустили. Он потерял опору, оступился и упал. Но тотчас встал на ноги, озираясь, готовый к новому нападению.
Противник его был отброшен в сторону. Рядом, он увидел, появились новые лица. Петров-Пеликан стоял спокойный и величавый как скала.
Володя боялся поверить в свое счастье.
С криком:
— Юрку убили!.. Бляди!.. — из-за Петрова выбежал Круглый из Ухты, рванулся к человеку с чайником. Ломаными движениями — наверное, так планировал драться Надарий, но у блатняги ухтинского все получилось удачнее, прицельнее, он не работал кулаками, не сделал ни одного лишнего замаха — подскочил, нанес ребром ладони один только удар в горло. Его жертва упала на колени, выронив чугунный чайник, захрипела, закашлялась натужно. Изо рта хлынула кровь.
— Сволочь!.. — Круглый взял его рукой за волосы. И отпустил. Тот завалился боком, продолжая хрипеть и задыхаться.
— Да-а, начудили… в сиську, в печень, в бога, мать!.. — произнес Петров неслыханное для Володи многоэтажье.
Надарий при виде заклятого врага вновь перебросился в излюбленную стойку.
— Ну, вот. Встретились, — произнес он. — Чувствовал — пасть порву тебе!..
Володя смотрел во все глаза.
Пока Надарий изображал предисловие к чему-то японскому — карате или джиу-джитсу — Петров легко приблизился к нему на расстояние вытянутой руки и сверху вниз, без каких-либо приемов, обрушил свой мясистый кулак на его темя.
Надарий упал. Потом опять сел, помотал головой и начал вставать.
Петров подождал, чтобы он полностью поднялся на ноги и принял защитную позу.
После этого снова взмахнул своим внушительным кулаком, опуская на темя Надарию.
Тот в очередной раз свалился на пол. Лежал, глазел тупо на врага и не спешил принять вертикальное положение.
Петров молча и спокойно смотрел на него.
— Пелик!.. — Человек в очках, высокий, с строгим, сухим лицом, довольно немолодой, бегом подходил со стороны лестницы. Слегка запыхался. Увидев кровь, побоище — остановился в растерянности. — Пелик!..
— Что, Модест? Удивляешься? — Петров усмехнулся, краем глаза посмотрев на приятеля. — Начудили, паршивцы… Они бы еще кого-нибудь прикончили без меня.
— Общежитие горит! На первом этаже полно дыма!
— Пошли Славку за комендантшей. Все одно теперь всплывет. Беги на станцию, звони вызывай скорую. Боюсь, как бы салажонок концы не отдал — мне не нравится, как он лежит. Позови мне сюда Ромку Цирковича и… Фаина у нас?
— У нас.
— Зови. Пусть чего-нибудь чистое оторвет. Рубашку мою… Я здесь буду.
— Горим!.. — вспомнил Модест. — Чувствуешь? Здесь тоже дым — чувствуешь?
Да, да, дымом тянет, заметил Володя. Он и забыл, что минут десять-двенадцать тому назад точно так же подумал. Перед тем как вслед за Малининым вошел в коридор третьего этажа.
8
Оставив надежных людей возле бесчувственного тела, Петров спустился на первый этаж.
Над Малининым хлопотала полузнакомая Фаина, Володя ничего не мог для него сделать.
Он вспомнил, как удивился несколькими днями ранее, когда Фаина, перевязывая ему руку, не пожалела свой красивый и чистый платок — насовсем, на выброс.
Великолепный Юрка Малинин не подавал признаков жизни. Фаина склонилась над ним.
Злодея, совершившего это черное дело и понесшего наказание от руки вездесущего, блатною Ухтой взращенного Круглого, его приятели унесли в его комнату.
Чем дальше Петров опускался на первый этаж, тем ощутимей воздух загрязнялся ядовитым дымом: ухудшалась видимость, труднее становилось дышать.
Мимо него, обгоняя, пробежал долговязый, вертлявый парень — виновник второго искалечения.
Петров отметил мельком — хотя как председателю студсовета ночь обрушила порядочно забот — что этот первокурсник, и кажется технолог, неплохой, вероятно, надежный боец.
Жаль, что всех их теперь исключат из института.
На первом этаже раздавался визгливый голос комендантши, почти невидимой в клубах дыма. Дым валил из комстопять; но огня нигде не обнаруживалось.
— Боря! Боря!.. Клянусь, я чую! это комсточетыре сотворила! Они, бандиты, больше никто!.. — кричала, обращаясь к Петрову, комендантша, вдвойне обозленная спросонья. — Я их выгоню! В шею! Давно пора!..
— Идемте, — сказал Петров.
В комсточетыре вела дверь, первая от входной двери и на пару ступеней опущенная ниже коридорного пола. Дверь оказалась открытой. Они вошли.
В пустой комнате было темно и, в сравнении с коридором, воздух был идеально чистый.
Комендантша засветила фонарик.
В это время все обитатели комсточетыре разгуливали на глазах взбудораженных общежителей с самыми невинными рожами. Демонстрировали свою лояльность.
Вместе с другими заглядывали в комстопять, где по всем признакам начинался и разрастался зловещий дымовой великан, заставивший хозяев с зажатыми носами, давясь и кашляя, выбежать из комнаты куда глаза глядят.
— Что делать? — спросила комендантша, зажмуривая слезящиеся глаза. Она и Петров остановились на пороге сто пятой. — Пожарную команду вызывать?..
— Не надо, — сказал Петров.
— Общежитие горит!..
— Нигде ничего не горит. Нормальные ребята. Детство в жопе играет. Хотите Луку Мудищева послушать? Есть пленка, можно взять у Джона магнитофон.
— Ой, шутник. — Комендантша рассмеялась и кокетливо толкнула его рукой. — Какой магнитофон? Я удивляюсь, как они все не перерезали друг другу глотку?
— Да нет. Все нормально.
— Нет?
— Нет. Спите спокойно.
В открытую настежь входную дверь врывался свежий сырой воздух, прореживая дым, разгоняя его на отдельные клочки. В комстопять догадались открыть окна, и она тоже стала быстро очищаться от дыма.
Лишь ядовитый запах, въевшийся в пол и в стены, до самого утра и следующий день напоминал о таинственном событии.
Студенты вспоминали о дыме, бывшем без огня.
9
Комната двадцать два, из-за того что располагалась прямо над кубовой, единственная среди жилых комнат общежития имела привилегию — в ней никогда не отключался свет.
Если комсточетыре для окончания карточной игры после отбоя вынуждена была жечь свечи, а за отсутствием оных запираться в умывальнике, для отвода глаз прихватив пару толстых учебников, если Джон для своей музыки тянул к себе в комнату нелегальную отводку, в комнате двадцать два всю ночь горела электрическая лампочка, работал радиоприемник.
Велись нескончаемые разговоры. Собиралась компания — местные «сливки общества».
Здесь жил Боря Петров, председатель студсовета. Модест Николаев, самый старший в комнате и на курсе, двадцатипятилетний член партии, староста группы, скрупулезно отмечавший в журнале все прогулы и опоздания, и делавший это с такой твердостью и такой прямотой, что никто из однокашников на него не обижался, ни разу не устроили ему темную, и даже с непонятной гордостью рассказывали о своем «железном старосте». Сорокин Слава, тоже студент второго курса механического факультета, личность ничем не примечательная, в меру прилежный зубрила, не гуляка, не средоточие какого-либо таланта, словом, ни то, ни се, ординарный парень, пришедший в институт, чтобы выучиться на инженера и с дипломом в кармане зарабатывать на хлеб насущный; он и в разговорах-то, ни в умных, ни в шутливых и глупых, не то что не блистал, почти не участвовал. Роман Циркович, штангист, родом из Минска, как и все в этой комнате механик и второкурсник, возмечтал после зимней сессии перевестись в Бауманское училище: предложение поступило, там укрепляли команду штангистов и, конечно, престиж Бауманского был вне конкуренции.
Часу в пятом ночи в двадцать второй горела настольная лампа, распространяя мягкое, ласково-таинственное освещение. Из приемника лилась тихонько заграничная джазовая музыка.
Сорокин Слава спал, накрыв голову одеялом.
Роман Циркович вытянулся на спине, устало смежая веки и через все более длительные промежутки снова взглядывая на присутствующих.
На кровати Модеста сидели, оставив между собой заметное расстояние, сам Модест и Фаина, одетая в вязаную кофту; поеживалась зябко, так как тянуло промозглостью из приоткрытого окна, специально оставленного для курящего Модеста.