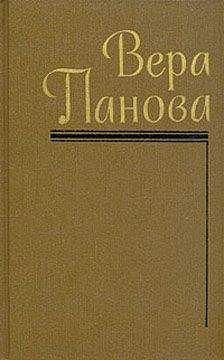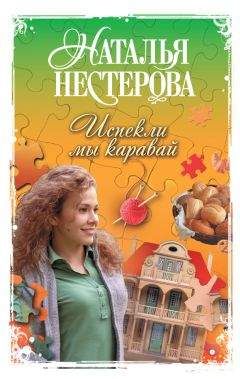Евгений Марков - Учебные годы старого барчука
Никто из нас не успел хорошенько оправиться, а несколько часов классного сиденья у белых стен, классной возни и всяческой классной распущенности превратили нас в довольно неопрятное и довольно беспорядочное воинство, совсем не годившееся для парадного смотра высшего начальства. По глазам Лукошкина было ясно видно, что наш неприбранный вид и наши табунные движения приводят его генеральскую душу, алкавшую во всём солдатского порядка и солдатской дисциплины.
— Что это у тебя, мальчишки уличные, а не гимназисты… Баранов стадо! Никакой выдержки, никакого строя, — гневно заметил он директору, не поворачивая на него глаз. — Я тебя сгною на гауптвахтах! Какой ты начальник?
Мы установились на свои места, образовав второе кольцо впереди шестиклассников. Всё стихло.
— Я заехал нарочно к вам в гимназию, чтобы показать вам, до чего дошла у вас распущенность! — строго и медленно объявил генерал, сожигая сердитыми очами бледного, как полотно, директора и в страхе толпившихся за ним педагогов. — У вас ученики держат себя на улице хуже всяких мужичонков, старшим не оказывают никакого уважения, начальства не признают. Вы тут казённое жалованье получаете не для того, чтобы республиканцев разводить. Вы все ответите мне за это! Я не допущу, чтобы в учебных заведениях Российского государства воспитывали атеистов и революционеров! А вы их воспитываете; вы не следите за их нравственностью. Полюбуйтесь, какими они у вас ходят! Где этот негодяй, что я привёл с собою?
Грозно оглянулся генерал. Глаза всей гимназии направились в ту точку, куда воззрились очи его превосходительства.
Полицейский солдат, которого мы не заметили с первого раза, выступил из-за вешалки, держа за руку четвероклассника Лобачинского. Конопатое некрасивое лицо его, длинное, как дыня, с жёсткими белесыми волосами торчком, до того было искажено страхом, что он казался нам бессмысленно ухмыляющимся. Он был одет в очень старенький гимназический сюртук с продранным локтем и без одной пуговицы на груди.
— Полюбуйтесь на этого молодца! Похож он на воспитанника благородного заведения? Весь растерзан, оборванец оборванцем! — отрывисто гремел Лукошкин. — Встретился со мною, вылупил глаза и шапки, негодяй, не ломает. Чему вы их учите тут? Безбожию, своеволию? Он должен начальника своего за три версты разглядеть, во фрунт вытянуться, пока проедет. Палку ему поставили в начальники, чтобы палку слушался, перед палкой шапку ломал! Вот что значит воспитывать… А это что у вас? Разврат один! Посмотри на его локти, на пуговицы…
— Ничего сделать не можем, ваше превосходительство! — пробормотал директор, немного оправившись. — Отец его простой мастеровой, столяр, совсем бедный человек… Мы уж и требовали, и грозили, не шьёт нового сюртука, говорит, средств не имею. А учится порядочно, исключить жаль. Не знаем, что делать?
— А вот я покажу тебе, что делать! — грозно взмахнул головою Лукошкин. — В гимназии хочет учиться, так исполняй уставы гимназии! Розог сюда принести! Всыпать ему сейчас пятьдесят перед всей гимназией! Пусть они все поучатся, как себя перед начальством держать… Пусть зарубят себе на носу…
Какой-то скверный жалобный визг, словно визг раздавленного животного, раздался в моих ушах. Лобачинский с плачем упал на колени и пополз к ногам Лукошкина, тщетно удерживаемый за плечи полицейским солдатом.
— Голубчик, миленький, ваше генеральское превосходительство! Отец родной! Простите! Не буду никогда! Бог меня убей, не знал… Не видал ни разу… Зарок перед образом дам, в землю буду кланяться… — отчаянно визжал он, стукая в землю лбом и стараясь обхватить руками ноги Лукошкина.
Причитанья у него лились, захлёбываясь рыданьями; по-видимому, он уже не в первый раз подвергался дёрке и хорошо знал, какова она. Он валялся, как червяк в пыли, у ног грозного генерала, который гадливо отдёргивал их он него, в то время как директор с инспектором, испуганные такой дерзостью, торопливо усиливались оттащить его подальше от Лукошкина.
У меня на душе сделалось невыразимо гадко. Возмущённо смотрел я на этого малого, который плакал от страху, как младенец, и унижался, словно провинившаяся собачонка пред тем, кто презрительно отталкивал его ногою. Этим недостойным малодушием он позорил священное в моих глазах званье гимназиста и четвероклассника, и мне казалось, что я сам был бы готов выступить сейчас вместо него, чтоб показать этому жестокосердному генералу, этим струсившим учителишкам, показать перед целою гимназиею, на память векам грядущим, как геройски может переносить истинный гимназист, казак-удалец, несправедливую казнь своих притеснителей.
Но эта платоническая храбрость моего возмущённого духа, к удивлению моему, исчезла так же мгновенно, как и появилась.
Надзиратель Нотович поспешно вошёл в залу, сопровождаемый зловещею фигурою солдата Долбеги, обычного исполнителя гимназических казней. Длинный пук красноватых лозовых ветвей, гибких и упругих, постоянно размачивавшихся у нас в воде в углу швальной, были зажаты у Долбеги под мышкою, — своего рода топор за поясом палача. Незримо, будто сама собою, очутилась среди приёмной длинная, всем знакомая скамья, как эшафот, внезапно возникший среди торговой площади перед ничего не подозревающей толпою. Две суровые солдатские фигуры выросли по концам этой скамьи.
Я никогда ещё не видал, как секут в гимназии; сердце моё отказывалось верить, что сейчас будет происходить то, что должно было произойти. Убежать бы куда-нибудь, сказать, что мне дурно? Но кто же пустить теперь? Ещё, пожалуй, самого за это разложат… Они все трусят этого ужасного генерала с торчащими вверх нафабренными усами.
Неистовый взрыв воя и плача перебил мои мысли. Я испуганно взглянул на скамью: Лобачинский уже лежал на ней, раздетый от самой спины, и отчаянно бился в руках насевших на него солдат. Один оседлал верхом его шею, крепко зажав себе под мышки руки Лобачинского, другой сидел на его ногах.
Мне стало до боли стыдно за этого большого малого, позорно обнажённого перед столькими чужими людьми, со всею тщательно прятавшеюся им скудостью и грубостью его бедного нижнего одеянья, со всеми дотоле скрытыми изъянами его плохо питавшегося, нечистоплотно содержанного тела, бесстыдно открытого насмешливому любопытству всех начальников и товарищей, и даже последнего пьяницы солдата. Мне сделалось стыдно и за себя, и за всех нас, его товарищей, покорно созерцавших это гнусное зрелище человеческого унижения, стыдно за воспитателей наших, думавших поучать нас нравственности подобными возмутительными сценами.
— Ой, душечка, простите! Ой, родной, простите! Ой, голубчик, простите! — вопил, будто зарезанный, Лобачинский.
Длинные лозы Долбеги ровно и сильно, как молотящий цеп, хлестали с размаху его худое золотушное тело, покрытое мелкою сыпью, и каждый раз оставляли на спине и пояснице перекрещивающие друг друга багровые рубцы, проступавшие кровью.
— Ой, убили совсем! Ой, зарезали! Ой, умираю! Батюшки, дайте вздохнуть! Отпустите душу на покаяние! И другу, и недругу зарекусь! — захлёбывался бедняга, сменяя бесполезные вопли глухим стоном и хрипом.
Теперь уже не стыд, а бессмысленный, невыразимый ужас оковал всё моё существо, и мои широко раскрытые глаза, словно ничего не видящие глаза лунатика, неподвижно пристыли к этому исполосованному окровавленному человеческому телу, бессильно бившемуся в живых тисках. Я чувствовал, что кровь отлила от моей головы и волною ударила в сердце; голова начала кружиться и мертветь; зелёные круги заходили перед глазами, ноги полегоньку тряслись и подгибались…
А длинные гибкие лозы всё так же мерно и споро, всё с тем же зловещим свистом продолжали взвиваться вверх и опускаться вниз, глухо барабаня, будто дождь по мокрой земле, и голос Лобачинского, потерявший всякие человеческие звуки, превращался в какой-то сплошной дикий вой убиваемого зверя…
Всё завертелось передо мною; зелёный туман густыми клубами закутал от меня свет Божий; ещё мгновенье, и всё сразу смолкло, онемело, стёрлось без следа, будто провалилось сквозь землю, куда-то в тартарары, будто ничего и не было никогда, ни моего мучительно страха, ни воплей Лобачинского, ни страшно генерала с вздёрнутыми вверх усами…
Я грохнулся на пол в глубоком обмороке.
Говенье
Законоучитель наш отец Антоний вселял в меня благоговейный трепет своею всегда сверкавшею, всегда торжественною фигурою. Он постоянно носил громко шумевшую новую люстриновую рясу, которая ломалась в изгибах и складках, будто жестяная, и отражала от себя во все стороны лучи солнца; мне казалось от этого, что до батюшки страшно дотронуться.
Как нарочно, нос у отца Антония был длинный и острый, слегка загнутый крючком, сжатые вместе губы выдавались вперёд тоже как-то остро и требовательно, чёрная бородка, собранная в тугую метёлочку, и усы, жёсткие, как проволока, стоят торчком вперёд, будто заранее насторожившись, а на голове была воздета сверх напомаженных до блеска волос непомерно высокая и сильно заострённая скуфейка лилового бархата, так что действительно в моей детской фантазии он весь словно ощетинивался остриями. К этому присоединялась необыкновенная величавость движений и речи. Батюшка наш, можно сказать, и ходил, и говорил только одним «высоким слогом».