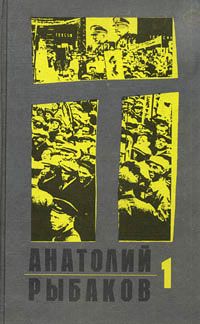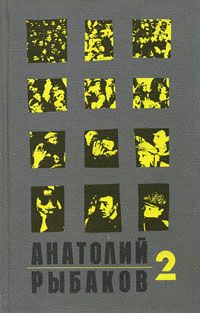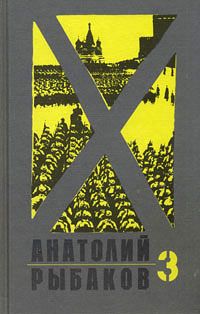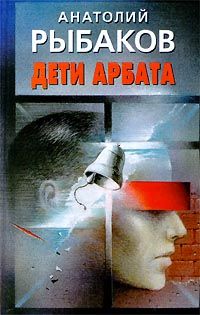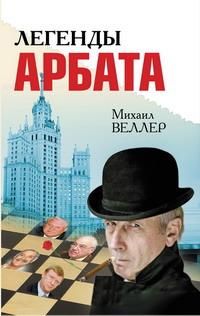Алексей Гатапов - Тэмуджин. Книга 1
– Он не был пьян… – равнодушно сказала Оэлун.
– Как это не был, когда он еле на ногах держался?.. Ты, видно, от волнения и не заметила это.
– Ладно, пусть он был пьян… Тэмулун спит? – огрубевшим голосом спросила Оэлун, обеими руками принимая полную чашу архи.
– Спит, не беспокойся, поела и снова заснула.
– Ну, пусть теперь боги помогут нам одолеть все трудности и поднять наших детей.
– Да, Оэлун-эхэ.
Она крупными глотками до дна выпила крепкое вино.
XIV
Не прошло после ухода Даритая и Ехэ Цэрэна от Оэлун времени и на то, чтобы можно было успеть выдоить трехлетнюю корову, как по всему куреню разлетелась ошеломляющая новость: старшая жена покойного Есугея-нойона отказалась выходить замуж за его брата, а сын не хочет отдавать знамя. Степным пожаром новость прошлась по куреню и теперь во всех айлах люди говорили только об этом. Старики вспоминали прошлые времена, начиная от тридцатых поколений, но подобных случаев, когда жена и дети покойного отказались войти в семью его брата, да еще и заведомо лишаясь отцовского наследства, припомнить не могли.
– С жиру бесятся, – говорили одни. – Никогда не голодали, не знали бедности, а теперь от спеси своей нойонской выдумывают всякие несуразицы…
– Если уже в таком возрасте он выбрал знамя, отказавшись от изобилия и сытости, – многозначительно переглядывались другие, – то каким человеком вырастет он в свою взрослую пору?
Еще с самого начала, с того самого дня, когда в курене стало известно о смерти Есугея, все были уверены в том, как теперь сложится судьба его семьи: главным в их родовой ветви теперь становился Даритай, значит, все ему и достанется – и знамя, и улус. Если и сомневались в чем-то люди, то в другом – сможет ли Даритай удержать в своих руках такое огромное владение: войско, подданных, бессчетные стада и табуны – слишком слаб он был по сравнению со своим братом, не имел ни веса среди нойонов, ни славы среди воинов. Многие были уверены, что через год, самое большее через два, он растеряет все это даром доставшееся богатство без остатка. Разговоров об этом среди соплеменников ходило много.
– Тысячники и сотники Есугея люди все непростые, с норовом, – предрекали одни. – Никогда они не согласятся быть под властью у такого нойона как Даритай.
– Помните, как он этим летом тайчиутских воров упустил? – вторили им другие. – Тогда его нукеры со стыда не знали, куда свои глаза от людей спрятать.
– Все племя над ними смеялось.
– Ничего нет хуже, чем такому нойону служить…
– Ему бы сейчас свое уберечь, когда брата рядом нет…
– Верно, раньше за спиной Есугея ему жилось как за железным щитом, теперь-то ворам бояться некого, пощипают Даритая, вот увидите…
И все-таки соплеменники с нетерпением ждали того дня, когда Даритай, свершая старинные обряды, будет принимать семью своего брата, а с ней и знамя, и улус. Ждали и надеялись на щедрые подарки: человек, обретая даже малую добычу – оленя добыв на охоте или коней пригнав с набега – обязательно должен поделиться какой-то частью. А тут не звериная туша, не табун – безмерное богатство, неисчислимые стада, табуны, подданные – и Даритай обязан сделать людям подарки, кому овцу или теленка, а кому-то и коня с седлом. Те, у кого родство с ним исчислялось ближе седьмого колена, рассчитывали и на большее. Ближняя родня, киятские нойоны ждали свои доли, приличествующие их положению.
Будь на месте Даритая другой нойон, посильнее духом, покруче нравом, надежд на такие уж щедрые подарки у людей было бы, наверняка, поменьше. Но Даритая все знали как человека слабого и уступчивого, а теперь, когда нет больше грозного Есугея, за чьим именем он раньше прятался, люди были уверены, что сумеют выдоить с него немало.
Тэмуджин внутренне давно был готов к тому, что рано или поздно к ним придет Даритай, а получив от матери Оэлун отказ, взбесится как голодная собака, которой показали кость и не дали. Тому же, что предсмертное повеление деда Тодоена о том, чтобы оставить знамя Есугея в его семье будет нойонами исполнено, не было никакой поруки. Тэмуджин знал, что такие наказы часто забываются, люди обычно делают так, как им выгодно, а потом вымаливают прощение у предков, принося им обильные жертвы мясом и кровью.
«Если уж такой человек как Мэнлиг, обещавший отцу защищать нас, скрылся, – думал он, – то чего же стоят слова дряхлого Тодоена».
Однако Тэмуджин все же надеялся на то, что слова покойного старика должны удержать нойонов хотя бы от того, чтобы они слишком ретиво помогали Даритаю завладеть знаменем. Но самое главное здесь было в том, что этот завет Тодоена на всю жизнь давал Тэмуджину право бороться за отцовское знамя и владеть им, и за это он был благодарен покойному: ведь и в далеком будущем могут появиться люди, которые усомнятся в его законных правах. Да и сам Тодоен, когда летом пригласил его к себе, так ему и сказал: «Дядья еще молодые, среди них могут появиться такие, которые пожелают с тобой тягаться…»
И для себя Тэмуджин твердо решил: если в эти дни Даритай или кто-то другой попытается отобрать знамя силой, то он возьмет его в руки и будет колоть любого, кто к нему приблизится.
Когда пастухи, приехавшие в этот день к стаду намного позже обычного, загадочно поглядывая на него, сказали, чтобы он побыстрее ехал домой, Тэмуджин сразу все понял. Чувствуя как что-то горячее закипает в груди и слабая дрожь завладевает его руками и ногами, не видя перед собой братьев, вопросительно смотревших на него, он молча хлестнул коня, разгоняя его во весь опор и, судорожно ловя ртом холодный встречный ветер, проскакал до самого дома.
Стремительно пронесшись по куреню, не замечая того, как останавливаются прохожие, подолгу провожая его понимающими взглядами, он рысью подскакал к своей коновязи. На ходу спрыгнув с коня, он вбежал в большую юрту и прямо из-под полога нацелив взгляд на северную сторону, поверх голов матерей, сидевших за очагом, увидел отцовское знамя на месте, рядом с онгонами.
Мать сидела на своем месте, по левую руку от хоймора, на своем же месте, пониже, сидела Сочигэл. Они одновременно оглянулись на вбежавшего Тэмуджина и по лицам их, сосредоточенным и грустным, Тэмуджин понял, что все свершилось так, как должно было быть: Даритай посватался, мать отказала.
Сдерживая в груди облегченный вздох, Тэмуджин прошел и сел на хоймор.
Мать медленно встала с места, достала с полки отцовскую бронзовую чашу, налила до краев пенистый айрак, подала ему. Тэмуджин поднялся на ноги, приняв обеими руками, подошел к знамени, обильно окропил его по конскому хвосту, свисающему от стального наконечника, угостил онгонов, и, стоя, выпил до дна.
Подъехали младшие братья. Толпой войдя в юрту, разгоряченно шмыгая носами, расселись по правую руку от Тэмуджина. Чувствуя напряжение среди взрослых, они без обычного шума и возни молча пили арсу.
Всей семьей они просидели у очага до позднего вечера, словно ждали чего-то. Тэмуджин временами был уверен, что скоро должны прийти какие-то люди, может быть, сам Даритай с нукерами, и потребовать отдать им знамя. Он уже представлял себе, как возьмет его в руки, братья возьмутся за копья и тогда они, не играя, по-настоящему покажут всем им, как зариться на чужое. Но день прошел обыденно, как будто ничего не случилось: словно Даритай не приходил к ним, а Оэлун ему не отказывала…
К Оэлун в тот день трижды прибегала Шазгай.
– Измени свое решение, пока не поздно, измени, – падая перед ней на колени, не стесняясь детей, и по-собачьи заглядывая ей в глаза, заклинала она. – Ведь пропадет улус брата Есугея!
Но Оэлун, уже объявившая свое решение, была непреклонна. От нее же, от Шазгай, они узнали о том, что с утра нойоны собрались в юрте Ехэ Цэрэна и без перерыва совещались о чем-то до пополудни, что не обошлось там и без потасовки: побили Алтана с братьями – кто-то видел, что дети Хутулы посылали куда-то гонцов: не иначе, с вестью к Таргудаю – и что Даритай, заболев от горя, до сих пор лежит у себя в юрте, жалуясь на слабость во всем теле.
– В курене людей будто дурная болезнь выкосила, – рассказывала безудержная на язык Шазгай. – Никого не видно, все по юртам попрятались, будто кто-то здесь из-за улуса брата Есугея воевать собирается, глупы ведь люди… А с восточного края с десяток семей вольных харачу снялись со своими юртами и откочевали, даже назад не оглянулись, говорят. На юг они, говорят, направились, в сторону генигесов, родня, наверно, там у них. Вот люди глупые, скажи-ка, Сочигэл, они думают, что теперь из-за дележа табунов нойоны драку между собой затеют, смуты испугались… А если по-разумному, Оэлун, надо бы тебе выйти за Даритая, подумай еще раз, ведь всем от этого только хорошо будет…
Перед вечером к Оэлун пришли пастухи, пораньше пригнав коров из степи, и прямо с порога попросили оплату за лето и осень. Оэлун сама, выехав за курень на своей белой кобыле, выбрала для них из стада по лучшей корове с телятами и в придачу отдала насовсем тех меринов, на которых они пасли их скот. Отпустила она в тот вечер и большинство работавших в их айле женщин из харачу, отдарив кого овечьей шерстью, а кого шкурами и зимней одеждой.