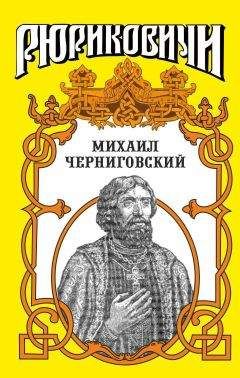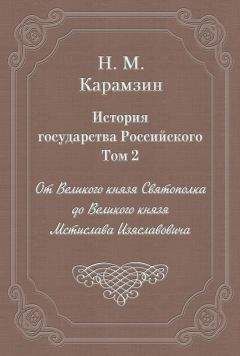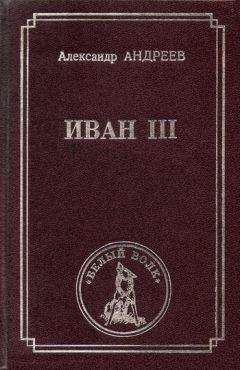Ульрих Бехер - Охота на сурков
Одновременно я отметил, что дед очень бледен.
Размахивая огромной натруженной рукой, рукой человека, в юности выполнявшего тяжелую работу, дедушка Куят познакомил меня с сеньором и сеньорой Итурра-и-Аску — шепотом назвав мне их имена по буквам, — и с сеньором Монтесом Рубио. Последний, худощавый сорокалетний человек, — нос с горбинкой, крошечные с проседью усики, — а те двое — молодые люди двадцати с небольшим лет, красивы, как юные боги, оба в черном. (Вот и хорошо, мой смокинг не бросается в глаза.) Когда я входил, мне показалось, будто они понимающе кивнули друг другу.
Мы пили испанский коньяк из пузатых рюмок и жевали черные оливки. В башенный кабинет, в «орлиное гнездо» Куята — это была надстроенная верхушка башни, с низким потолком, прорубленными в трех стенах иллюминаторами, как в капитанской каюте, и с французским окном в четвертой, выходящей на юг, — мучная пыль не проникала, обставлен же он был подчеркнуто старомодно, как кабинеты в 1913 году. Вокруг курительного столика, в столешницу которого вделана янтарная пластина, подсвеченная снизу, стоят глубокие кресла, обтянутые темной лакированной кожей; рядом — французский бильярд, клеенчатый чехол поблескивает в свете висячей лампы; абажур совсем диковинный — из коней коралловых змей, у стен стойка с киями, книжный шкаф и открытый, заваленный бумагами секретер, на стенах множество пожелтевших фотографий, главным образом с видами Амазонки, и какая-то странноватая гравюра на меди. Дед, бегло говоривший по-испански и португальски, перешел на превосходный французский, в котором, однако, его берлинский акцент слышался куда явственней. Разговор шел о падении Кастельона, городка в ста примерно километрах севернее резиденции республиканского правительства — Валенсии, также взятой на этих днях, 15 июня, мятежниками.
Юный Итурра, которого жена называла Адан или Аданито, сдерживая волнение, покачивал головой — черные как вороново крыло локоны, изящный маленький нос, глаза редкого зеленовато-янтарного цвета (быть может, чуть-чуть сходного с цветом моих глаз), — Адан, внезапно разгорячившись, заговорил об оборонительных сооружениях вокруг Валенсии, созданных республиканцами в соответствии с французской оборонной стратегией.
— Хоть les fascistes[154] прорвались в апреле к Средиземному морю, но Модесто отбросит их назад! Модесто — военачальник с необычайно богатым воображением! Модесто со своей Agrupación Autónoma del Ebro[155], — взмахнул он небольшим кулаком, и юная жена взглянула на него с грустной нежностью, — удержит фронт, невзирая на непрерывные налеты легиона «Кондор», этих убийц, посланных морфинистом Герингом. No pasarân![156]
И трое испанцев изящным движением поднялись из кресел.
— Приглядись к старшему, — зашептал мне дед по-немецки, снимая трубку с телефона на секретере. — Был директором Музея Прадо в Мадриде; рискуя собственной жизнью, эвакуировал все сокровища из Испании, и представь себе, в Женеву… Алло, Пфифф? Сейчас я спущусь с испанцами! Alors, mes amis[157], — перешел он опять на французский, — я провожу вас в лифте вниз. Нет, уж этого меня не лишайте, но лифт, comme vous savez[158], выдерживает только трех человек.
— Я обожду, — вежливо предложил спаситель сокровищ Прадо.
Юная басконка с миниатюрным золотым распятием на закрытом черном платье, сеньора Итурра-и-Аску, бросила мимолетный, едва ли не восторженный взгляд на мой лоб (я, надо думать, ошибся) и сказала глубоким низким голосом с удивительной твердостью:
— Vouz descendez en avant, messieurs[159]. Я буду ждать… чтобы еще раз un petit coup d’œuil на романтичную долину с вашей великолепной башни, grandpère[160].
С этими словами она накинула на плечи кружевную черную шаль, по всей видимости настоящую мантилью, и вышла на галерею.
Пока дед рылся в маленьких ящиках секретера, ища что-то, Монтес Рубио, вежливо и грустно улыбаясь, пожал мне руку:
— Bonne chance, monsieur[161].
— Возможно, я буду иметь счастье, мсье, — ответил я, — посетить вас в Женеве и осмотреть Музей Прадо в изгнании.
Но беглец из Мадрида ответил весьма загадочно:
— В этом я сильно сомневаюсь. Даже если вы благополучно вернетесь, мсье, чего я от всего сердца вам желаю, совершенно не известно, долго ли я буду иметь счастье охранять спасенные коллекции Прадо. Всего вам лучшего, единственное, что я могу вам пожелать, и спасибо.
Дед нашел, что искал: пристежной карманный фонарик; приладив свою находку, он вышел из кабинета в крошечную прихожую. Монтес Рубио последовал за ним.
Еще более удивили меня жесты и слова, с которыми прощался со мной юный Адан.
Он долго, очень долго пожимал мне руку. В свете лампы над бильярдом я обнаружил, что костюм его был из темно-синего габардина и потому черная траурная повязка почти не выделялась на правом рукаве.
— Для меня было честью, мсье, встретиться с вами.
— И для меня, мсье, также, — пробормотал я.
— Но это не просто façon de parler[162]. Действительно, большой честью. — (Чем же это расхвастался дед, рассказывая испанцам обо мне?) — Сейчас, прощаясь с вами, я уже не успею вам объяснить, почему я сам… — Его янтарные глаза заблестели от вспыхнувшей в них гневной скорби или от скорбного гнева. — Я только хочу сказать, что Монтес Рубио, приверженец правого социалиста профессора Негрина, и я, баскский католик, всей душой преданы республике и убеждены, что обязаны сражаться за общее дело вместе с коммунистами против смертельных врагов нашей молодой республики. Malgré certaines difficultés[163]. — Неужели он принимает меня за одного из руководителей компартии? — Я знаю о вас не очень много, но достаточно, чтобы восхищаться вашим мужеством. И хотя вы атеист, мсье, позвольте мне, прощаясь с вами, сказать: господь, благослови вас! No pasarán! Au revoir![164]
Он быстро отвернулся, и я увидел, как оба испанца — субтильные по сравнению с дедом, вошли вслед за ним в кабину, услышал гуденье спускающегося лифта. А потом я услышал какие-то другие звуки. Легкие шаги — видимо, надо мной.
Я вышел на галерею, на «оборонительную площадку», окаймленную зубцами, и увидел, что юная Итурра-и-Аску недвижно стоит меж двух зубцов спиной ко мне. По всей вероятности, она стояла в этой позе уже долго.
Зубцы, раздвоенные, точно ласточкины хвосты, смахивали на башенки высотой более четырех метров. Почти все они хорошо сохранились, и только от бывшего хода по крепостной стене, обегавшего башню, остались жалкие следы. С тех пор как я в последний раз был в Луциенбурге — вскоре после побега из Вены, — над кабинетом сделали новую надстройку из светлого кирпича размером не больше садового домика, с откидной, в настоящее время запертой дверью, к которой вертикально поднималась похожая на пожарную лестница, и с окном-фонарем, сквозь него на зубцы падал рассеянный зеленоватый свет. В эту минуту в окне на мгновение мелькнула тень человека и из надстройки до меня донеслись легкие шаги одинокого перипатетика.
Неужели Куят держал кого-то в плену в этой «воздушной темнице»? От деда я всего мог ожидать — особенно под воздействием трех таблеток эфедрина. Дул фён, ночное небо приняло фиолетовый оттенок, легкие облака разлетелись, звезды засияли на удивление огромные, точно надутые шары. Испанка стояла у решетчатого парапета, протянутого от одного зубца до другого, его заказал уже Куят (опасаясь за внуков). В свете, падающем из окон кабинета, ее изящный, резко очерченный профиль четко выделялся на фоне неба. Опершись о перила, я кивнул на неправдоподобно близкую, черно-фиолетовую вершину:
— Voilà le Bévérin[165].
Она не шевельнулась. Голос у нее был низкий, как у Ксаны, но хрипловатый и все же мелодичный, типично иберийский альт.
— Quand partez-vouz en avion?[166]
— Я? Когда я лечу? — (Черт побери, что же это насочинил обо мне своим гостям дед?) — Я был… да, много лет назад я был летчиком… во время войны…
— И теперь опять война. И вы опять полетите. На этот раз в Испанию. Чтобы помочь нашим.
(Черт побери, что это дед им…) Я собрал все свои познания во французском и начал:
— Madam…
— Mademoiselle, — прервала она меня, стоя неподвижно, точно страж на башне, обнаруживший в долине первые признаки врага. — Аданито — мой брат.
— Ах, извините, я ошибся.
Из окна-фонаря исчезла тень, и сверху послышался стук. Но эта женщина, эта девушка Итурра-и-Аску не шелохнулась. Только сейчас я разглядел, как похожа она на юного баскского бога: лишь чуточку длиннее нос и не волнистые, а черно-гладкие, стриженные под мальчика волосы. Пытаясь загладить свою ошибку, я легко, словно говорил о чем-то давно прошедшем, сказал:
— Однажды я путешествовал с дамой и выдавал себя за ее сводного брата… кельнерше-итальянке. Хотя вовсе не был сводным братом той дамы.