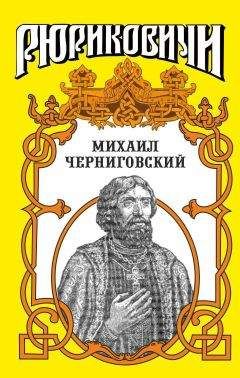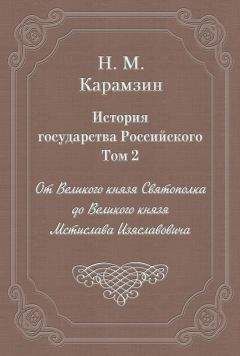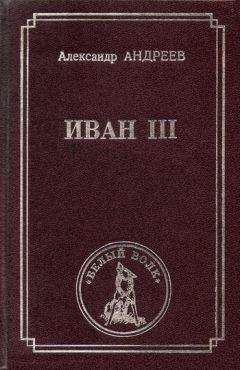Ульрих Бехер - Охота на сурков
— Я говорю о второй мировой войне.
— Второй мировой? — От слов этих, произнесенных на ярко выраженном прусском диалекте, так и разило войной. — Войне? — Пфифф отвернулся, вытащил из кармана фонарик и буркнул через плечо: — Все может быть. Нынешний-то мир на глиняных ногах. Не я ли это завсегда твердил у Ашингера[150].
Пфифф махнул незажженным фонариком. В свете дворовых фонарей я разглядел глубокую озадаченность на заурядном лице неунывающего берлинского парня.
Ганс Пфиффке был сыном рабочего из берлинского района Рейникендорф; первого мая двадцать девятого года, когда традиционная майская демонстрация была запрещена берлинским социал-демократическим полицай-президентом Цергибелем, тощий парнишка шагал в рядах Союза красных фронтовиков, который игнорировал запрет, к Люстгартену. Рукопашная; резиновые дубинки; выстрелы; убитые. Ганс Пфиффке дотащился с раненой ногой до кустов в Тиргартене. Со стороны площади Большой Звезды двигался «родстер» со швейцарским номером, за рулем сидел гернулесовского слол<ения великан лет шестидесяти, в светлом весеннем костюме, видимо, наблюдавший схватку, возможно, репортер. С удивительным проворством он перенес раненого — парень был в весе жокея — из кустов в машину, развернулся, прежде чем подоспели цергибелевские полицейские, и, не обращая внимания на пронзительные свистки, унесся по Шарлоттенбургскому шоссе.
«Так я выудил Пфиффа, — вспоминал Куят, — из драки, с ходу увидал, что больно он мал для нее».
Отправляясь в Бразилию, в самое сердце Мату-Гросу, Куят взял с собой Пфиффа, и тот показал себя неутомимым наездником на местных карликовых лошадках. Теперь он шагал по булыжнику, в поблескивающих крагах, без шапки, в белой рубахе, темных бриджах, всем своим видом напоминая сухопарого жокея (оттого-то мне и пришел на память Фиц), а на фоне Павлиньего двора — оруженосца.
Проходя мимо двух машин под эркером, я поинтересовался:
— А что, кроме орды внуков, есть еще гости?
Пфифф включил фонарик, направил луч на номера, один из которых был с женевским гербом.
— Эмигранты-испанцы из Женевы. Среди них — важная птица. Директор Музея Прадо. Но вот попозже, прибудет персона так персона!
— Кто же?
Пфифф выключил фонарик.
— Ну, я так думаю, Требла, тебе-то я могу шепнуть… Валентин.
— Какой Валентин? — переспросил я тоже шепотом.
— Ну, тот самый Валентин, чудак ты.
— Что?! — меня точно током ударило. — Валентин Тифенбруккер?!
— Он, он. Четыре дня назад сбежал из Дахау.
— Боже, — прошептал я обрадованно. — Великий боже!
— Ну, не очень-то носись со своим великим боженькой, товарищ.
— Мать честная, а ты-то, Пфифф, не считаешь разве, что это замечательно, грандиозно, великолепно?!
— Я считаю, что это отлично. И парень Валентин отличный.
Пфифф глянул вверх на окно. Так мне показалось. Но я тут же понял, что он вглядывался в облака, гигантской паутиной затянувшие ночное небо.
— Фён предвещают, — объявил он. — Но до бури не дойдет. Завтра чем свет, в пять, он улетит.
— Валентин? Но куда?
— Ну уж не в Дахау назад, приятель.
Я не отрывал взгляда от ставен, прикрывавших замурованное окно. В отблеске фонарей я обнаружил то, что прежде, когда приезжал сюда даже днем, не бросалось мне в глаза.
На этих ставнях не было волнистых красно-желтых линий, как на остальных. Вставив монокль в слабовидящий глаз, я пригляделся к ставням, но тут послышался смешок Пфиффа.
— Хе-хе, Красный барон с моноклем.
— Я же тебе тысячу раз объяснял, что ношу его не из щегольства, а потому что правый глаз…
— Ну, ну, не лезь в бутылку, товарищ. А что ты там разглядываешь? Ждешь, может, что наша дурацкая Белая Лукреция сквозь стенку на балкон выплывет?
— Что еще за Лукреция?
— Да Белая фрейлейн, Лукреция Планта, приятель. Известно ведь, что так прозывается наш домашний призрак.
— Планта?.. А… Дай-ка фонарик, Пфифф.
Тоненький яркий луч фонарика медленно заскользил по ставням. Я обнаружил на обеих створках одинаковый выцветший узор. Да, павлиний хвост. Но где я видел такой же?
Несколько ночей назад. Когда, встревоженный тишиной в доме де Коланы на Шульхаусплац в Санкт-Морице, я залез в сад и пробрался к окнам его спальни. На стене над окном в ту бурную ночь я с трудом различил едва ли не начисто смытый дождями рисунок. Не прошло и часу, как я увидел «свет в озере».
2
Обе башни Луциенбурга были прямоугольной формы. Видимо, рыцарь, выстроивший их, предполагал хранить в них на случай осады зерно. В одной, выходящей на Павлиний двор, окон было немного, наверху — двухскатная продолговатая крыша, внизу — живописная арка, ведущая в соседний двор: ступенек нет, несмотря на крутой спуск, но достаточно высокая, чтоб пропустить всадника. (Отсюда рыцари спускались и сюда поднимались на закованных в броню конях.) Коротышка Пфифф пошарил узким лучом по стертому булыжнику, повел меня под аркой вальтерфогельвейдевских[151] времен и дальше, по тесному темному дворику, где передо мной возникла отвесная стена мрачной второй башни — с плоской крышей и широкой галереей. Массивные зубцы, раздвоенные, подобно птичьим хвостам, четко вырисовывались на фоне приглушенно светящегося розоватого неба. И здесь, под самыми облаками, «орлиное гнездо» деда… Пфифф загремел связкой ключей, с усилием открыл железную дверь.
Шагнув следом за ним, я ступил на что-то, похожее на снег. Мука.
Не в первый раз входил я сюда, в эту башню, поражающую неожиданностью своего внутреннего вида. Дерево и алюминий. Своеобычная путаница спиралевидных желобов, штоков, роторов, стальных тросов, шарниров, день-деньской двигающихся, казалось бы, в хаотическом ритме, преодолевающих взаимное сопротивление, вибрирующих, вращающихся, скользящих, громыхающих и гудящих в унисон, словно гигантский часовой механизм; освещенную зарешеченными лампочками вертикальную шахту подернуло туманом мучной пыли. Сейчас в вертикальном лабиринте царила необычная тишина, все вокруг застыло, только мучная пыль держалась в воздухе спящей мельницы, словно удушающие, но без малейшего запаха испарения, словно снег, лежала на дощатом настиле, освещенном одной-единственной, тоже зарешеченной лампочкой, мы вступили на него, чтобы пройти меж двух штабелей плотно набитых бумажных мешков. Скудный свет лампочки придавал им розоватый оттенок, как и некрашеным кедровым доскам настила, и балкам, и белокурому пробору Пфиффа. Воспоминание о Двух Белобрысых вспыхнуло и погасло: оно казалось чем-то бесконечно далеким. Да, казалось, казалось в этот миг, когда меня охватило странное возбуждение.
Пфифф нажал кнопку, вызывая лифт.
— С лифтом-то ты знаком, нажмешь кнопку К, значит, кабинет. Ну, пока, товарищ, и гляди, не дай им себя скрутить.
— Но, Пфифф, кто же собирается?..
— Так я на всякий случай. Я ж завсегда говорил: чего уж они с нами сделают, разве что гремучим газом накачают да за воздушный шар продавать станут, не больше того.
Я уловил его ухмылку и понял: в ней не было неистощимого берлинского юмора, задора, скорее, за ней с трудом скрывалось замешательство. И тут же я вспомнил, задним числом вспомнил, что Пфифф избегал смотреть на Ксану, даже помогая ей выходить из машины. Ощущение, как при местной анестезии, знаешь, что тебя колют, а боли не чувствуешь.
Пассажирский лифт Луциенской мельницы в противоположность грузовому был не вместительнее небольшого платяного шкафа. И пока он, не торопясь, взбирался наверх, я осознал причину моей искусственной бодрости. Эфедрин. Мне дышалось легко, но зато у меня было такое чувство, словно я погрузился в небытие. Я сознавал всю реальность окружающей действительности и вместе с тем был словно чуть-чуть во хмелю, ощущал себя невесомым существом, плывущим в неведомые дали. Подумать только, эта самая шахта вела вниз, до погрузочной платформы, встроенной в ущелье бетонного гиганта, мельницы, мимо которой мы с Ксаной проехали. Архитектор Куята перехитрил Управление по охране памятников и доказал свой талант маскировщика, упрятав верхние этажи мельницы за нетронутым фасадом второй башни.
— Qué tal, qué tal?[152] — встретил меня дед. — Ты же говоришь по-испански.
— Да не очень.
— Последний гомо испано-австрияк не говорит по-испански?
— Я плохо, но бегло говорю по-итальянски.
— По-итальянски не говорит ни один испанец. А уж тем более баск. Будешь объясняться с ними по-французски, они сейчас уезжают. Je vous présente mon ami Trébla, antifasciste combattant![153]
Кое-что меня насторожило. Пожалуй, впервые за все время нашей дружбы Куят опустил одну, не слишком для меня приятную церемонию: не представил меня громогласно как зятя Джаксы.