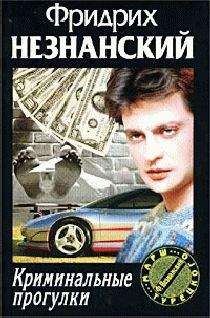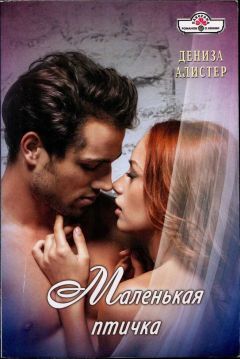Алексей Шеметов - Искупление: Повесть о Петре Кропоткине
Прошагав версты две в раздумьях о современных и будущих человеческих судьбах, он возвращался к древним ледникам. Не уходил ли он в сторону от социальных проблем, описывая трагедию планеты далеких тысячелетий? Нет, не уходил. Он верил, что его исследование ледниковых и озерных отложений поможет географам тщательно изучить как глубинные пласты земной поверхности, так и почвы, а это пойдет уже непосредственно на блага освободившегося народа — истинного хозяина всех сокровищ природы. Природу и человека он не разъединял.
Он описывал движение ледников и продолжал заполнять карту, покрывая ими те места, на которых обнаруживал (по отчетам других исследователей) эрратические валуны. Картина вырисовывалась все яснее. Белая холодная лава двигалась с северных архипелагов, Скандинавии и Финляндии по всей Северной Европе, «заливала» ее центр, ползла все дальше на юг и двумя огромными языками тянулась к Черному и Каспийскому морям.
Перед ним проходили великие длительные процессы: надвигались на пространства северного полушария мощные ледники, исчезала на их пути вся жизнь, уходил от гибели беспомощный дикий человек, ледниковую эру сменяла озерная, а с высыханием болот и уменьшением озер вновь поднимались травы и леса, возвращались на возродившиеся земли животные, возвратился и человек, уже менее дикий, обработанный многовековой борьбой за свое существование, несущий зачатки будущей цивилизации, — пращур славян, кельтов и германцев, племена которых потом заселили почти всю Европу.
Погружаясь в далекие века, арестант совсем не воспринимал знаков текущего времени — меланхоличного перезвона крепостных курантов, полуденного пушечного выстрела, подачи пищи в дверное окошко. Но вот приносили ему лампу, забирали рабочий инструмент, и тут только он с досадой замечал, как быстро промелькнул куцый зимний день.
В день именин, в самый короткий декабрьский день, его навестили брат и сестра. Лена принесла традиционный семейный курник. Богородский дал им часовое свидание в особой комнате. Комната была довольно светлая, не с амбразурой, а с обыкновенным окном, правда, зарешеченным. Но на решетку они не глядели, сидели за столом, трапезничали, шутили, смеялись. Прощаясь, братья обменялись тайком записками.
За этот счастливый час арестант заплатил потом двумя днями тяжелейшей тоски. Да, два дня он шагал непрерывно по каземату, не в состоянии приняться за работу. Свидания растравляют заживающие душевные раны узников. Чем радостнее свидание, тем сильнее и дольше болит после него открывшаяся рана. Лишь на третий день арестант-исследователь вернулся к своим ледникам. В каземат внесли очередную партию книг и научных журналов, давно доставленных Сашей, но только что, вероятно, просмотренных прокурором. Кропоткин набросился на свежие издания и вскоре нашел описание замечательных опытов Пфаффа. Нашел, прочитал и захлопал в ладоши. Прекрасно! Значит, он, Кропоткин, был вполне прав, полагая, что лед под большим давлением пластичен и текуч. Упорно стоял на своем, хотя опыты авторитетнейших ученых (Гельмгольца, Тиндаля, Треска, Филлипса, Мозли) не оправдывали его предположения. У этих ученых лед внутренне не изменялся, растрескивался, но они подвергали его давлению на короткое время, А теперь вот геолог Фридрих Пфафф доказывает, что цилиндры, стоящие на льду, с течением времени вдавливаются в него. Это похоже на то, как стальной стержень в опытах Треска вдавливается в полужидкую глину. Не остается ни малейшего сомнения в том, что большая ледяная толща, пластичная в нижних слоях под собственным давлением, двигалась, подобно оползню влажных глин, с горных мест. Двигалась, захватывая скальные обломки, сгребая их в морены и разнося по равнинам валуны. Спасибо тебе, Фридрих Пфафф. Ты помогаешь утверждать ледниковую гипотезу. Жаль, что результат твоих опытов не удалось вклинить в первый том «Исследования» — он уже печатается. Но еще не поздно дать небольшое дополнение.
И Кропоткин написал примечание к первому тому, уже не первое и, конечно, не последнее.
На пятый день после свидания Саша должен был сообщить запиской, как идет дело с печатанием первого тома. Пятый день этот прошел, прошли еще сутки, а никакой вести от Саши не было. Арестант встревожился. Почуял что-то страшное. Но от работы, однако, не отступился, воли пугающему воображению не давал, успокаивал себя, как мог. Просто Саша приболел, не сходил еще на Васильевский остров, не побывал в типографии Стасюлевича, потому и не написал. Или вскапризничал прокурор, приостановил деловую переписку. Саша добьется, опять поднимет на ноги географов, и те обратятся через своего августейшего председателя к императору, император осадит прокурора. А что, если сам царь запретил переписку и свидания?.. Нет, тогда он не позволил бы арестанту и работать. Подождем еще денек-два, записка придет.
Записка действительно вскоре пришла, но не от брата, а от Ивана Семеновича, который уведомлял, что отныне корректуру читать будет он, Поляков. Это короткое сообщение убило арестанта. Все! Предчувствие не обмануло. Совершилось самое страшное. Сашу, конечно, арестовали. И это ты вверг его в беду, ты, любящий братец! Из-за тебя он вернулся в Россию и вступил в связь с твоими друзьями.
Работа оборвалась. День за днем арестант шагал по темному каземату, и смятенное его воображение лихорадочно живописало беды брата, сестры и племянницы. Ужасные картины одна за другой выступали из мрака. А он все сновал и сновал из угла в угол, мучимый болезненными видениями. Чтобы хоть на минуту избавиться от них, однажды он решил подсчитать, сколько верст прошел он по этому грязному войлоку в этих больших, хлябающих туфлях-бахилах. 315 дней, прожитых в крепости, он помножил на 7 верст и получил внушительную цифру — 2205. Но это еще не все. Ведь больше месяца он шагал с утра до вечера и проходил за день верст тридцать. 30 x 35 = 1050. 2205 + 1050 = 3255. Три тысячи двести пятьдесят пять верст. Порядочно. А по сравнению с его экспедиционными маршрутами — пустяк. В путешествиях пройдено больше семидесяти тысяч верст. Однако там он передвигался не только пешком, но и на перекладных, верхом, на таратайках, в лодках, на пароходах, паузках и плотах. Там окружали его верные товарищи по трудным походам и живая природа, а не крепостные стоны и не безмолвные часовые, крадущиеся к двери, заглядывающие в каземат. Вот опять открылся дверной глазок. О господи! Невыносимо. Что с братом? Может быть, он сидит уже здесь в каком-нибудь каземате? В чем его обвиняют? О, как он, должно быть, бушевал при аресте и обыске, горячий, дерзкий с начальством, нетерпимый к бесправию. Что у него нашли? Он ведь писал редактору журнала «Вперед», своему швейцарскому другу Петру Лаврову. Писал, не называя имен, о русских революционерах, с которыми сблизился в Петербурге. Не удержался нейтральным, начал действовать, не дождавшись «настоящей битвы», каковая только и могла, как он раньше думал, заставить его драться на стороне «честных и бескорыстных дурачков, не понимающих, что историю творят не умные головы, а тупые башки». Бесконечно далеко ушел в прошлое тот прощальный вечер с разговором о будущем. Где ты, Саша, сию минуту? Где ты, милый талантливый философ и астроном? Откликнись. Убийственное безмолвие.
Арестант подбежал к боковой стене и принялся стучать по ней кулаком. Глухие звуки, наверное, не проникали в соседний каземат через толстую стену, обтянутую с обеих сторон обоями, полотном, проволочной сеткой и войлоком.
Он отошел от стены и стал сильно бить ногой в пол. Бил долго, отчаянно. Потом остановился, прислушался. Никакого ответного звука. Могильная тишина. И глазок почему-то не открывается. В коридоре мертво. Может быть, и часовых вовсе нет на свете? Существует ли вообще какая-нибудь действительность? Что, если эта дубовая дверь с глазком и все, что видишь, — только твое воображение, твое представление? Полно, сам-то ты существуешь ли?.. Ну, раз мыслишь, значит, существуешь. Да и действительность никуда не пропала. Вон слышатся где-то в коридоре шаги. Приближаются. До чего дошел! Усомнился в собственном бытии. Так можно сойти с ума. Бездействие — гибель. Шаги все приближаются. Останавливаются у двери. Смотритель, конечно. Будет вразумлять — стучать не позволено. Нет, входит унтер с одеждой. Прогулка.
Он шагал с гулким скрипом по утоптанному снегу тротуарчика и поглядывал через стены бастиона в сторону соборного шпиля, но ни шпиля, ни золотого ангела увидеть в морозном тумане не мог. Смотреть было не на что. Он опустил голову и приостановился, увидев подле тротуарчика знакомую стайку воробышек. Маленькая летом, теперь она еще уменьшилась. В ней осталось всего пять птичек. Две или три погибли. Воробышки бодренько попрыгивали по жесткому промерзшему снегу и клевали что-то невидимое, может быть, обманывались, принимая мелкие частицы осевшей сажи за семена трав. Голодают. В следующий раз надо принести им хлеба. Глядишь, и голуби прилетят. Те не обидят этих пташек. Меж многими видами борьбы за существование нет. Надо проверить сибирские наблюдения. Вот закончить с ледниками да перейти к биологическим исследованиям, а от биологических — к общественным. Взять бы, например, социальный идеал, бегло начертанный в программной записке, и исследовать возможности его осуществления, опираясь на исторические факты и на законы природы, открытые современной наукой. Или взяться бы за серьезное изучение истории Великой французской революции, выявить причины ее побед и поражений, раскрыть народную силу, совершенно неведомую французским историкам, ибо они старательно описывают лишь то, что происходило в верхах, — борьбу вождей и партий, не видя бурных низовых потоков… Слишком многого хочешь, арестант. Одолеть бы хоть ледники! Отступился от них. Пришибла беда брата и его семью… Веру, хорошо поправившуюся в Швейцарии, опять сразит ее страшная болезнь. Не упустила бы сыночка. Все кончится, кажется, ужасным несчастьем… Но не пророчь, не пророчь. Бездействуешь — вот и лезут в голову всякие ужасы. Надо возвращаться к жизни. Работать.