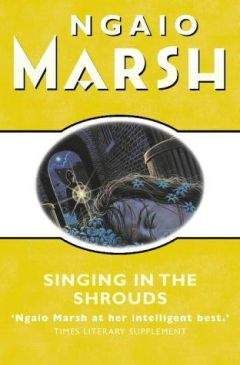Владислав Бахревский - Свадьбы
Гиганты опустили копья и ушли.
Дверь за ними сомкнулась.
— Люби меня, я хочу забыться, — сказала богиня,
Они остались вдвоем, и с ними было небо.
* * *— Улемы[53] должны стоять над властью, — заявил своим ученикам Хусейн-эфенди, — ибо улемы — чистый посредник между светской властью и народом. Падишах и народ одинаково должны верить в безгреховность и в безошибочность суда ученых людей, а потому каждый приговор улемов — это правда, согласованная с законом шариата, не противная традициям, освященным веками, и не противоречащая знанию, которому подвластен современный мир.
Хусейн-эфенди отверг все корыстные союзы сильных в империи и вслед за падишахом, который устроил чистку во дворце, начал изгонять из корпуса улемов людей, приобретших дипломы за взятки.
Кёзем-султан, рискуя потерять последние капли доверия падишаха-сына, явилась в Айя-Софью и сама говорила с Хусейном-эфенди.
— Твоя мысль — оградить народ от неправого суда — прекрасна, — сказала она ему, — но Мурад — а я знаю своего сына лучше тебя — видит в этом посягательство на безупречность его власти. Если ты не безумец и если ты действительно хочешь оказать услугу народу, не спеши. Уверяю тебя: придет время, и чистота улемов будет восстановлена сама собой. Ты плодишь врагов, обрушив гонения на мошенников. Но ведь, обрывая листья, сорняк не убьешь. Нужно вырвать корень.
— Я пекусь о делах, которые приносят пользу падишаху, — ответил Хусейн-эфенди. — Нельзя восхвалять аллаха и одновременно возводить хулу на Повелителя народов. Молитва будет кощунством.
Пропасть разверзлась перед Кёзем-султан. Она была уверена, что Хусейн-эфенди, разгневанный посягательством Мурада на священные права улемов, войдет в сговор и поможет ей свалить непочтительного сына-падишаха. Ведь у нее были и другие сыновья.
Безумец, он собирался помогать Мураду править империей. В дворцовых интригах честный человек куда опаснее заклятого врага. Его ведь не купишь, на него одна управа — смерть.
Измученная сомнениями и страхами после беседы с Хусейном-эфенди, Кёзем-султан заснула на плече у меддаха доверчиво, а потому крепко. А меддах уже был готов к побегу. Не находя выхода из дома, он выслеживал тайну стены, через которую приходила к нему его повелительница. Но сегодня Кёзем-султан до того была растеряна и расстроена, что забыла опустить за собой стену.
Меддах высвободил плечо, оделся, сунул за пазуху золотой кубок и, отбросив кисею, которая заменяла убранную в потолок подвижную стену, очутился в крошечной купальне, уставленной зеркалами. Открыл дверь. Тесным, низким ходом, вырубленным в скале, прошел к другой двери, вполне обычной, деревянной, затворенной на задвияшу. Отодвинул ее, потянул ручку на себя и очутился на тропинке.
Не оглядываясь, кинулся по тропинке прочь, потом, опасаясь погони, свернул к морю. Берегом прокрался к городу и нырнул в него, радуясь утру и ранним толпам народа, в которых можно и от самого аллаха укрыться.
Город орал, как бешеный осел, растравленный весной и ослихой.
Но истинное спасение человека — в его друзьях, и, пока тайный дом не оплел город паутиной ищеек, беглец направил свои безумные стопы в чайхану меддахов.
Чайхана была открыта и, несмотря на раннее время, полна народу. Рассказывал старый меддах, тот самый, что приютил у себя русскую девушку Надежду.
Тишина стояла в чайхане — заслушались люди.
И вдруг кто-то из меддахов воскликнул:
— О аллах!
Через чайхану к меддахам шел человек в одеждах, усыпанных драгоценностями.
— О аллах! — воскликнули меддахи, узнавая и не узнавая своего юного товарища. — Откуда ты явился, пропащий?
— Я был там, где одни только радости, но, клянусь вам, вечно радостная жизнь солона и горька для смертного. Я так соскучился по всем вам, по моим возлюбленным слушателям, что прошу вас позволить мне вступить в состязание славных меддахов без очереди.
— Рассказывай! — в один голос воскликнули и меддахи и слушатели.
— Меня душат слезы счастья: я опять с вами! Я хочу, чтобы сегодня было весело… Помянем же наших неунывающих лазов…[54] Слушайте!
Одна повивальная бабка попросила подержать свечу перед роженицей. Вышел один ребенок. Свеча догорела. Зажгли вторую. Вышел второй ребенок. И эта свеча догорела. Зажгли третью. Вышел третий ребенок. Но когда зажгли четвертую свечу, муж-лаз вырвал ее из рук бабки и растоптал. «Ты с ума сошла! — кричал он. — Они же на свет лезут!»
Чайхана дружно взорвалась смехом.
— Святой человек Хызр, — продолжал меддах, — проходил как-то мимо поля, увидал бедного крестьянина и сказал ему: «Проси у меня что хочешь!» Крестьянин воткнул свою лопату в землю и попросил: «Пусть лопата станет деревом». Хызр превратил лопату в дерево, а у крестьянина от обиды навернулись слезы: «Пропала моя лопата!»
Люди смеялись, и под их смех с феской, полной пара, юный меддах и старик покинули чайхану.
Глава вторая
— Будь гостем! — сказал старик меддах, пропуская молодого своего товарища вперед.
Тот зашел в комнату старика и замер. Возле окна, отирая невидимую пыль с глиняной вазы, стояла высокая статная девушка. Тяжелые русые косы по плечам до пят, глаза синие, как небо осенью над золотым лесом, лицо чистое, белое. Поглядела на вошедшего строго, без смущения, только бровь, черная шелковая, надломилась слегка.
Следом за молодым меддахом вошел старик.
— Прости, Надежда! Мы пришли сегодня раньше времени. Скажи моей жене, что пропащий нашелся, пусть она приготовит угощенье.
Надежда опять же без всякого смущения поглядела чуть более милостиво на друга старика, поставила вазу и быстро вышла из комнаты.
— Кто это? — удивился меддах.
— Она русская. Ее зовут Надежда.
— Она твоя жена?
Старик засмеялся.
— Нет. Ее история подобна твоей и достойна сказания.
Когда молодой меддах выслушал историю Надежды, он
воскликнул:
— О небо! Ее судьба действительно похожа на мою судьбу. Жизнь во дворцах оставила ей драгоценное платье, как и мне. И если эти два несчастных платья соединить, получится одна счастливая судьба.
— Если Надежда полюбит тебя, я буду рад выдать ее за тебя замуж, но, если она этого не захочет, не прогневайся. Для меня и моей жены Надежда стала родной дочерью, — ответил старик.
* * *Тень скользнула по ее лицу, и она проснулась. В окно, словно воды бурного паводка, вкатывались волны лунного света.
«Нэдэждэ», — долетел до нее странный шепот.
Она отворила окно.
На дереве сидела огромная золотая птица.
— Нэдэждэ! — прошептала птица и в мольбе потянулась к девушке руками.
Ветка качнулась, птица затрепыхалась, стала валиться на бок, поспешно вцепилась руками в сучок и, с шумом превратившись в человека, повисла перед окном Надежды.
Девушка неудержимо — о аллах! — тихонько, затаивая звук, рассмеялась.
Птичка оказалась молодым меддахом.
Меддах подтянулся, оседлал сучок, собирался сказать нечто высокое, но положение у него было дурацкое, а в дурацком положении самые нежные слова выглядят тоже по-дурацки.
Надежда облокотилась на подоконник и смотрела на меддаха. Под луной лицо ее было серебряное, а волосы все-таки золотые.
— Держи! — меддах что-то метнул Надежде.
Она поймала.
Это была роза. Роза уколола девушку в ладонь.
— Спасибо! — сказала Надежда по-русски.
— Что?
— Благодарю тебя. Это лучший подарок за всю мою жизнь… — Надежда тихонько засмеялась и вдруг заплакала. — Прости, мне сегодня исполнилось восемнадцать лет.
Русская девушка не закрывала лица, как принято у турчанок, от нее исходила чистота белых северных льдов.
— Стань моей женой! — вдруг сказал меддах девушке.
Она посмотрела на небо. Небо было чужое. Она жила среди добрых людей, но небо Стамбула было чужое.
— Возьми меня, меддах, — ответила Надежда.
— О аллах! — воскликнул он. — Я перед лицом твоим клянусь! Подобно учителю моему, я буду иметь только одну жену, ибо кто знает многих жен, тот не достигнет дна в море любви.
— Если завтра вспомнишь слова, которые ты произнес сейчас, приходи за мной. Мы, русские, любим говорить: утро вечера мудренее.
Глава третья
Олень вырвался на просеку и помчался вверх, на взгорье. У него не было другого пути, только вверх, по открытой, смертельно опасной просеке: в лесу сидели загонщики, по пятам гнались собаки. Оленя вели к вершине холма. Здесь, в засаде, зверя ждал падишах Оттоманской империи султан Мурад IV.
Мурад знал все про царскую охоту. Когда-то она ему нравилась — лучшего, великолепнейшего зверя убивал он, первый человек государства. И не имело значения, сколько лет этому первому верховному человеку, одиннадцать или сто. Зверь падал к ногам государя, подчиняясь неумолимой силе закона иерархии.