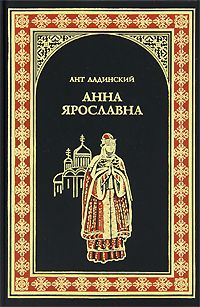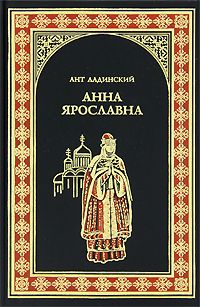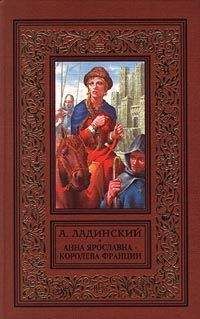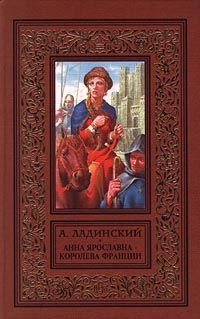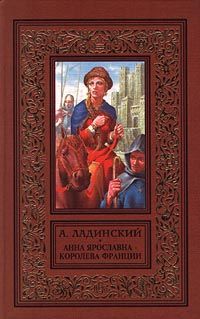Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
Весь ответ Ленетты заключался в неописуемо кроткой мольбе: «Ах, не надо, Фирмиан, прошу тебя, не продавай посуду!»
«Ну, ладно, я согласен!» (ответил он, испытывая кисло-сладкую сатирическую радость от того, что переливчатая, радужная шейка голубки наконец захвачена силком, который он уже так давно снабдил приманкой). «Хотя император Антонин свою посуду, которая была из чистого серебра, обратил в монеты, и мне это было бы еще более простительно, но я согласен! Ни один лот не будет продан, и все будет лишь — заложено. Хорошо, что ты меня навела на эту мысль; ибо в Андреев день, если только я подстрелю хвост или державу или даже сделаюсь королем, мне ничего не будет стоить или, вернее, будет стоить лишь моих денежных призов, выкуп всего этого добра и, в частности, салатника и соусника. Пусть будет по-твоему: ведь есть же у нас в доме старая Забель, которая уносит и приносит все: и деньги и товары».
Тут уж она покорилась. Стрельба в Андреев день была для нее сигнальной стрельбой гибнущего корабля, зовущего на помощь, или волшебным кошелем Фортуната; деревянные крылья птицы-мишени были теперь пристегнуты к ее надеждам, словно искусственные восковые крылья, а порох и свинец превратились для нее, как для монархов, в цветочные семена будущих цветов радостей. Ах, Ленетта, во многом тебя можно назвать бедной! Но именно бедные питают несравненно больше надежд, чем богатые! Поэтому и лотереи, подобно чуме и другим эпидемиям, более опасны для бедняков, чем для богачей. Зибенкэз, который с презрением глядел даже на утрату денег, а не только вещей, втайне решил, что если даже сделается королем стрелков, то навсегда оставит этот хлам торчать в качестве государственного заклада у литейщика и лишь при случае, проходя мимо его мастерской, превратит залоговую сделку в куплю-продажу.
Через несколько тихих, ясных дней Штиблет снова нанес вечерний визит. Среди тягостей их блокады, когда угрожала контрабанда и когда почти каждая краюшка хлеба облагалась пошлиной, уплачиваемой посредством слезы или вздоха, Фирмиан едва ли имел досуг, не говоря уж об охоте, вспоминать о своей ревности. У Ленетты должно получиться как раз наоборот, и если она питает и скрывает в себе любовь к Штибелю, то на его золотоносных землях таковая, конечно, будет расти успешнее, чем на истощенной ниве адвоката. Советник не обладал зорким взглядом, невольно различающим сквозь улыбку скрытые домашние горести, и ничего не заметил. Но именно поэтому дружеское трио пережило веселый, неомраченный час, одаренный восходом если не солнца, то хоть луны счастья (надеждой и воспоминаниями). Ведь Зибенкэз, наконец, снова имел пред собою образованного слушателя, разбиравшегося в звоне шутовских бубенцов и в пышных фанфарах его лейбгеберовских причуд. Ленетта в них не разбиралась, и даже Штиблет понимал лишь его разговоры, но не писания. Оба мужчины сначала говорили, подобно женщинам, о лицах, а не о делах, с той только разницей, что свои сплетни они называли историей ученых и литературы. Ученый желает знать о великом писателе все, все его мелкие черты, вплоть до предметов одеяния и любимых блюд; по той же причине женщина необычайно зорко подмечает все мельчайшие черты появившейся мимоездом великой княгини, вплоть до каждого бантика и оборки. Далее от ученых они перешли к учености, — и тогда рассеялись все тучи жизни, и поникшая траурно голова, окутанная великопостным алтарным покровом, снова открылась и выпрямилась в царстве наук. — Душа человека вдыхает живительный воздух своих родных высот и взирает с высокой вершины Пинда и видит лежащим внизу, подобно трупу, свое тяжко израненное тело, которое до сих пор давило и душило эту душу, словно кошмар.
Когда бедный, затравленный школьный учитель, тощий, бродячий Magister legens, когда многосемейный захолустный пастор или измученный домашний наставник бессильно лежит под орудиями пытки, терзающими каждый его нерв, тогда приходит его коллега, обрабатываемый столькими же орудиями, и целый вечер ведет с ним диспуты и философствует и излагает новейшие мнения литературных журналов. Поистине, тогда переворачиваются песочные часы в застенке,[73] тогда в житейский ад этих двух служебных собратьев, сияя, нисходит Орфей с лирой наук, и давние муки прерываются, грустные слезы перестают омрачать заблиставший взор, змеи фурий свиваются в локоны, а колесо Иксиона становится лишь колесиком на лире, и вращается, извлекая мелодичные звуки, а бедные Сизифы спокойно внимают им, восседай на своих двух камнях… Ну, а добрая супруга пастора, бродячего лектора, школьного наставника — чем она утешится в такой же беде? Нет у нее утешений, кроме мужа, и потому-то он должен многое ей прощать.
Читатель еще помнит из первого тома, что Лейбгебер прислал из Байрейта три программы; одну из них, а именно д-ра Франка, Штибель принес теперь и поручил Фирмиану прорецензировать ее для «Кушнаппельского божественного вестника немецких программ». При этом он извлек из кармана и другое произведеньице, которое, очевидно, тоже требовало отзыва. Читателю приятно будет видеть оба эти творения, так как мой и его герой сидит без гроша, а критикой их он сможет прокормиться хоть несколько дней. Второе писание, тут же развернутое, было озаглавлено: Lessintgii Emilia Galotti. Progymnasmatis loco latine reddita et publice acta, moderante J. H. Steffens. Cellis 1778. — Вероятно, многие подписчики «Божественного вестника немецких программ» будут порицать позднее сообщение об этом переводе и ставить в пример «Вестнику» «Всеобщую немецкую библиотеку», которая, несмотря на обширность обслуживаемой ею всеобщей немецкой территории, все же сообщает о хороших сочинениях уже в первые годы после их рождения, иногда уже на третий год, так что часто похвала сочинению может быть переплетена в таковое, ибо макулатура последнего еще не распродана. Но «Божественный вестник» не сообщил о многих произведениях, появившихся в 1778 году, да и не мог тогда сообщить, ибо он сам — лишь через пять лет после того появился на свет.
Зибенкэз дружелюбно спросил Штиблета: «Не правда ли, поскольку требуется, чтобы я как следует прорецензировал господ Франка и Стеффенса, моя добрая Ленетта не должна скоблить и шуметь щеткой у меня за спиной?» — «Поистине, это было бы уж слишком» — сказал советник серьезно. Тут ему было представлено шутливое и смягченное извлечение из актов домашней тяжбы. Ласковый, пристальный взор Ленетты пытался заранее угадать и прочесть rubrum (красный заголовок) и nigrum (черный текст) приговора Штибеля на его лице, на котором имелись оба цвета. Но Штибель, несмотря на то, что грудь его вздымалась, переполненная вздохами страстной любви к ней, обратился к ней со следующей речью: «Госпожа адвокатша для бедных, это никуда не годится. Ибо господь не сотворил ничего благороднее ученого, который пишет и мыслит. Десять сотен тысяч людей сидят вокруг него во всех частях света, словно на школьных скамьях, и ко всем должен он обращаться, — заблуждения, усвоенные мудрейшими народами, должен он искоренять; древности, давным-давно исчезнувшие вместе с их обладателями, должен он в точности описывать; сложнейшие системы должен он опровергать или даже заново создавать, свет его учения должен проникнуть сквозь массивные короны, сквозь тройную войлочную шапку папы римского, сквозь капюшоны и лавровые венцы и просветить все покрытые ими мозги, — он должен и может это сделать; но подумайте только, госпожа адвокатша, с каким трудом! Набрать книгу трудно, но еще труднее сочинить ее. С какими усилиями творил Пиндар и еще до него Гомер (я имею в виду Илиаду!). И так один за другим, вплоть до наших времен. Что ж удивительного в том, что великие писатели, в ужаснейшем напряжении всех своих мыслей, часто едва сознавали, где они пребывают, что делают и чего хотят; — что они становились слепыми, глухими и бесчувственными ко всему, что не подпадало под их внутренние, душевные пять чувств: так ослепшие прекрасно видят во сне, но наяву, как уже сказано, остаются слепыми. Подобное напряжение мне объясняет, почему Сократ и Архимед стояли и совершенно не знали, что неистовствует и бушует вокруг них, почему Карданус в глубоком раздумьи забыл о своей ломоте, другие — о своей подагре, один француз — о пожаре и другой француз — о своей умирающей жене».
«Вот видишь, — тихо и радостно сказала Ленетта мужу, — разве может ученый господин слышать, когда его жена моет и метет?» Но Штибель невозмутимо продолжил свою цепь умозаключений: «Для такого душевного огня, в особенности пока он еще не разгорелся, совершенно необходим полнейший штиль. Поэтому в Париже великие ученые и художники живут лишь на улице святого Виктора, так как другие улицы слишком шумны. Точно так же по соседству с профессорами в сущности не должны работать кузнецы, жестяники, золотобойцы».
«В особенности золотобойцы, — серьезно добавил Зибенкэз. — Следовало бы лишь принять в соображение, что душа не может одновременно дать приют более, чем полудюжине мыслей:[74] если же мысль о шуме входит в качестве седьмого смертного греха, то одна из тех, которые можно было бы продумать или записать, конечно, удаляется из головы».