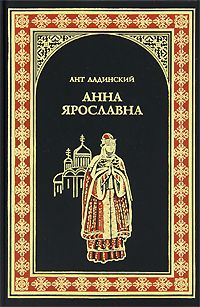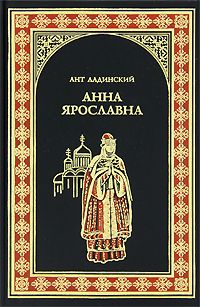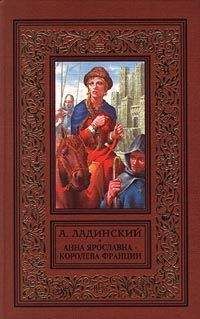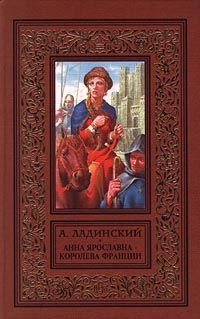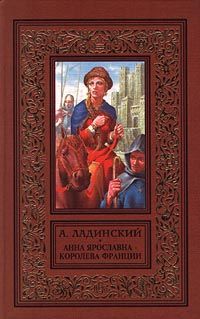Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
Если бы автору настоящей книги помехой при его работах были подобные плеоназмы, то в ответ на них он сочинил бы отнюдь не громовую проповедь, а только, — и то лишь потому, что его поощрили, — нижеследующий
Экспромт о женских разговорах
«Автор книги „О браке“ говорит, что женщина, которая не разговаривает, глупа. Однако легче быть его панегиристом, чем последователем. Умнейшие женщины часто немы среди женщин, а глупейшие и бессловеснейшие часто оказываются таковыми среди мужчин. В общем и для женщин справедливо сказанное о мужчинах, — что больше всего мыслят те люди, которые меньше всего говорят, точно так же, как лягушки перестают квакать, если зажечь свет на берегу пруда. Впрочем, болтливость женщин вызывается тем, что они постоянно работают сидя; подобно им, сидячие ремесленники — портные, сапожники, ткачи — отличаются не только самыми ипохондрическими причудами, но и болтливостью».
«Столики, на которых трудятся женские пальцы, как раз и служат игорными столами, за которыми разыгрывается женское воображение, а вязальные иглы незримо становятся магическими жезлами, превращающими всю комнату в заколдованный остров, полный грез; поэтому письмом или книгой внимание влюбленной отвлекается больше, чем четырьмя парами чулок, которые она вяжет. Обезьяны, по словам дикарей, не говорят, чтобы не работать; но многие женщины говорят вдвое именно потому, что они работают».
«Я старался догадаться, в чем смысл этого явления. На первый взгляд кажется, что всякое повторение сказанного природа предназначает для выработки метафизических истин: ведь по Якоби и Канту доказательство есть не что иное, как ряд тождественных логических утверждений, а так как женщины вечно твердят одно и то же, то они непрестанно доказывают. И все же для природы несомненно более важен следующий полезный эффект. По мнению проницательных естествоиспытателей, листья деревьев всегда колышатся, чтобы этим непрерывным хлестанием очищать воздух: это колебание выполняет почти что ту же роль, что и небольшой, слабый ветерок.[75] Было бы чудом, если бы экономная природа без всякого умысла наладила гораздо более продолжительное, семидесятилетнее колебание женских языков. Однако умысел тут имеется: он тот же, что и при раскачивании листьев; вечная пульсация женского языка должна способствовать сотрясению и перетряхиванию атмосферы, которая иначе застоялась бы. Луне поручено оздоровлять колебаниями водный океан, а женской голове — воздушный. Потому-то, если бы все женщины сделались прозелитками и послушницами пифагорейского учения, это рано или поздно привело бы к эпидемиям — обители молчальниц превратились бы в обиталища зачумленных. Потому-то среди цивилизованных народов, которые разговаривают больше, повальные болезни идут на убыль. Потому-то и является благотворным этот заведенный природой порядок, согласно которому женщины больше всего разговаривают именно в больших городах, особенно — зимой, особенно — в комнатах и в большом обществе: ибо из всех мест и времен эти отличаются наибольшим скоплением испорченного воздуха и осажденного флогистона и более всего требуют освежающего опахала. Да, природа здесь преодолевает все искусственные преграды: хотя многие европейские женщины, — в подражание индианкам, набирающим полный рот воды, чтобы молчать, — наполняют его чаем или кофе, когда находятся в гостях, однако именно эта жидкость не столько препятствует, сколько способствует настоящей женской разговорчивости.
Надеюсь, что здесь я весьма далек от тех близоруких телеологов, которые каждому великому планетному движению природы подсовывают и приписывают какие-то мелкие окольные пути и конечные цели; таким людям, может быть, и пристойно, — хотя я бы постыдился, — утверждать, будто осцилляция женских языков, польза которой достаточно обоснована движением воздуха, служит еще и для того, чтобы выражать, как прообраз, какой-либо смысл или мысль одушевленных существ, например самой женской души. Сие относится к предметам, о которых Кант сказал, что их нельзя ни утверждать, ни опровергнуть. Уж скорее я бы согласился, что речь есть признак прекращения мышления и душевной деятельности, подобно тому как в хорошей мельнице сигнальный колокол должен звонить не раньше, чем иссякнет запас зерна для помола. Далее, как известно каждому супругу, язык еще для того подвешен в женской голове, чтобы звуковыми сигналами своевременно оповещать, когда в ней царит разноречие, нечто нелогичное или же нечто немыслимое.[76] Так и г-н Мюллер применил в своей счетной машине колокольчик, звон которого должен лишь указывать, что в машине происходит ошибочный расчет или какая-нибудь задержка в счете, — а теперь ученому-физику надлежит исследовать дальше эту проблему, дабы решить, ошибаюсь ли я, и намного ли».
Теперь я открою тайну: этот экспромт сочинил наш адвокат.[77]
Свою рецензию он закончил лишь на следующее утро. Конечно, свои немногочисленные мысли о переводе «Эмилии» он хотел высказывать публике до тех пор, пока деньгами, вырученными за эти мысли, не удалось бы оплатить новые головки к его сапогам, — за пару Фехт запросил полтора листа, — но на это нехватило времени; он должен был сегодня же глазомером наборщика подсчитать рукопись и получить гонорар.
Рецензии были отосланы к редактору: счет критических издержек достиг, — так как лист исчислялся в два флорина, а страница — в тридцать строк, — суммы в три флорина четыре зильбергрошена пять пфеннигов. — Как странно! Люди смеются, встречая указания на зависимость между духовным и телесным, рассудком и гонораром, страхом и страховой премией; но разве вся наша жизнь не есть уравнивание (или правило товарищества) души с телом, и разве всякое воздействие на нас не является физическим, а всякая наша реакция — духовной?
Девчонка на побегушках принесла обратно лишь привет, вместо тех серебряных пластинок, в которые должны были скристаллизоваться чернила нашего критика. Штиблет об этом совершенно не подумал. Присущая учености рассеянность делала советника равнодушным к собственному богатству и слепым к чужой бедности; он, правда, замечал зияние в рукописи, но не замечал зияющей дыры в собственном или чужом чулке, башмаке и т. д. Ослепительный блеск душевного огня скрывал от этого счастливца фосфоресценцию гнилушек вокруг него. В школьном спектакле нашей земной жизни счастлив актер, если возвышенная внутренняя иллюзия заменяет или маскирует ему иллюзию внешнюю; если пред ним, опьяненным своей одухотворяющей ролью, пейзажи размалеванных декораций цветут и шелестят под сыплющимися горошинами дождевой машины и если его не пробуждает перестановка декораций.
Однако прекраснодушная слепота советника сильно обеспокоила наших влюбленных; маленькое созвездие, которое должно было сегодня светить им, рассыпалось падающими звездами. Штибеля я не порицаю, ибо он был хотя и слей, но не глух к чужому горю; зато для вас, богатые и знатные, неуклюже ползущие по медовым сотам ваших наслаждений и с клейкими крыльями плывущие в розовом сиропе, для вас, которым слишком тяжело пошевелить рукой, чтобы из столбика золотых монет отсчитать плату тем, кто помогал наполнять ваши нектарии, — для вас настанет некогда час суда, и вас спросят, достойны ли вы были жизни, не говоря уже о наслаждениях, если вы уклонялись даже от малого труда уплаты, тогда как низшие принимали на себя великий труд заслужить ее. Но вы исправились бы, если бы подумали, сколько горя часто причиняет беднякам ваша небрежность, когда вы ленитесь вскрыть сверток монет или прочесть короткий счет; если бы вы представили себе отчаяние, с которым жена отшатнется от мужа, вернувшегося с пустыми руками, гибель стольких надежд, нужду и горестную жизнь целого семейства…
Итак, адвокат снова состроил ту дурацкую мину, с которой он обычно производил посеребрение, и обошел все углы, обозревая сквозь лорнет оставшуюся утварь, ибо предпринял этот грабительский поход в надежде выжать из нее доход. Подобно тому как порядочный монарх или английский министр ночью приподнимается в постели и, облокотившись, подпирает рукою голову и перебирает в ней статьи или полные березовым соком стволы, к которым можно приставить бочарный бурав нового налога, или изыскивает (в другой метафоре) такой хитроумный способ выкапывания торфа, то есть налоговых денег, при котором убыль пополнялась бы приростом: так поступал и Зибенкэз. С каперским свидетельством в руках он обыскивал все встречные суда, под любыми флагами: он поднял ввысь свою мыльницу и снова поставил ее; он встряхнул параличную спинку старого кресла и щелкнул ею; еще тщательнее испробовал это кресло, усевшись в него, и снова встал. Я прерву свой период, чтобы вскользь упомянуть, что Ленетта очень хорошо поняла смысл этой опасной вербовки местных жителей и подведения их под рекрутскую мерку, а потому в свою очередь немедленно развернула период и жалобными воплями запротестовала против этой игры, при которой вместо фантов отдавались в залог настоящие вещи. Далее Фирмиан снял с крюка старое желтоватое зеркало с золочеными резными листьями на рамке, висевшее в спальне против зеленых решеток кровати, и, осмотрев его мездряную сторону и деревянную подкладку и немного передвинув стекло вверх и вниз, снова повесил; затем осмотрел старый таган, а также ночные посудины, которых налицо имелось три, в виде тройни; до этих последних он вовсе не дотрагивался, а лишь задвинул их ногой подальше под их прикрытие; с фарфоровой масленки, изваянной в форме коровы (согласно пластическому остроумию того времени), он мимоходом снял спину и заглянул внутрь, но поставил ее, пустую и полную пыли, на карниз, в качестве украшения; дольше он взвешивал на обеих ладонях ступку для пряностей, но поставил ее обратно в стенной шкаф; принимая все более веселый и грозный вид, обеими руками выдернул из комода ящик, отодвинул назад салфетки и букет искусственных цветов и хотел слегка перелистать траурное платье из клетчатого ситца. Но тут Ленетта встрепенулась, схватила его за перелистывающую руку и воскликнула: «Что ты делаешь! С божьей помощью, до этого я никогда не дойду!»