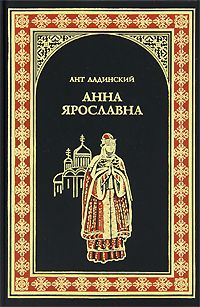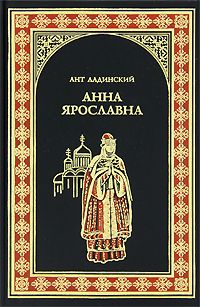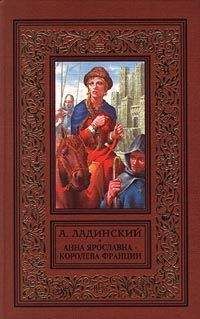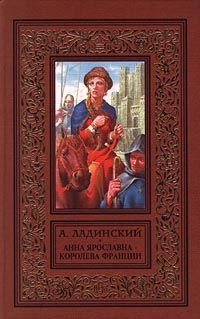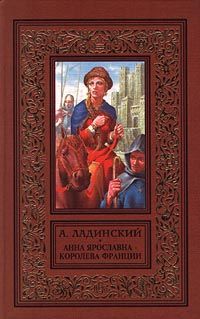Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
«Ах, как прелестно, — отвечала она, — значит, я все же смогу утром выполнять по-настоящему все мои работы, как полагается порядочной хозяйке?» — «Разумеется, — добавил он, — ибо по утрам я буду спокойно писать дальше мои сатиры и дожидаться вечера, чтобы продолжать оттуда, где я остановился утром».
Вечер нектара и амброзии действительно наступил, и нелегко было бы найти подобный ему среди предшествующих вечеров. Двое молодых супругов, одни, возле одной свечи и за одним столом, тихо и мирно работая, конечно могут порассказать, что такое счастье: он непрестанно расточал поцелуи и удачные мысли, а она — улыбки; ее двигание сковородой не больше доходило до его слуха, чем движения ее иглы. «Если люди, — сказал он, чрезвычайно довольный домашней реформацией, — при одной свече зарабатывают двойную плату, то, насколько я могу судить, им незачем стесняться и тесниться к жалкой, тонкой как червяк маканой свече, при которой ничего не видно, кроме самой этой глупой свечи. Завтра мы без долгих разговоров применим литую».
Так как некоторое достоинство этой истории, по-моему, заключается в том, что я извлекаю из нее и сообщаю лишь события первостепенной важности, то я не буду долго задерживаться на том, что вечером появилась литая свеча и зажгла небольшую распрю, ибо адвокат при свете этой свечи снова извлек на свет свою новую доктрину о зажигании, свечей. Дело в том, что он придерживался весьма еретического убеждения, будто всякую свечу, а тем более толстую, разумным людям надлежит зажигать с толстого конца, а не с тощего верхнего, и что именно поэтому у каждой свечи фитиль торчит с обоих концов; «в пользу этого закона горения, — добавил он, — мне достаточно привести, по крайней мере для того, чтобы убедить разумных женщин, лишь то очевидное обстоятельство, что сжигаемая свеча, подобно прожигателям жизни, нажившим ожирение и водянку, все более утолщается книзу; и если ее подожгли сверху, то мы наживаем внизу, в подсвечнике, комок, потёк и огарок негодного сала; зато как изящно и симметрично ложится текущий жир с толстой половины на тощую, постепенно сообщая ей равномерность и как бы упитывая ее, если мы сначала зажжем толстую!»
Ленетта противопоставила его доводам нечто сильное, а именно Шэфтсбёриев пробный камень истины, насмешку. «Право же, — сказала она, — всякий, кто войдет вечером и увидит, что мою свечку я вставила в подсвечник наоборот, будет смеяться, и во всем будут винить жену». — Итак, в этом свечном диспуте пришлось для установления равноправия принять конкордат, согласно коему супруг зажигал свои свечи снизу, а супруга свои сверху. Пока же при совместной свече, которая сама по себе была толста сверху, он согласился на interim неправильного освещения.
Однако дьявол, который от изумления при виде подобной картины перекрестился и сотворил молитву, сумел подстроить так, что адвокату еще в тот же день случилось прочесть умилительный рассказ, как Плинию-младшему супруга держала лампу, чтобы ему светло было писать. Теперь, при оживленной работе над извлечениями из бумаг означенного дьявола, адвокату вдруг пришло в голову, что было бы чудесно и избавило бы его от необходимости отвлекаться, если бы Ленетта приняла на себя обязанность снимать со свечи. «Да с удовольствием» — ответила она. Первые пятнадцать или двадцать минут все шло и выглядело превосходно.
После этого он раз поднял и повернул подбородок к свече, словно указательный палец, чтобы напомнить о снимании нагара. В следующий раз он для той же цели только дотронулся молча до свечных щипцов острием пера; позже он слегка подвинул подсвечник и кротко сказал: «Свеча!» Однако затем дело начало принимать более серьезный оборот, так как он стал внимательнее наблюдать на бумаге за потемнением: и тогда те самые щипцы, от которых, поскольку ими должна была действовать рука Ленетты, он надеялся получить так много света для своей работы, сделались помехой его движению, словно цепкие клещи или же словно клешни рака для Геркулеса в его борьбе с гидрой. Жалкая, тощая пара мыслей о свечном нагаре и свечном огарке, взявшись под-ручку, нагло плясали взад и вперед на всех буквах его острейших сатир и лезли ему на глаза. «Ленетта, — вскоре сказал он снова, — для нашего общего блага ампутируй, пожалуйста, нелепую черную конечность!» — «Ах, в самом деле, я забыла» — сказала она и быстро сняла нагар.
Читатели с натурой историка (именно таких я и желаю себе) легко смогут здесь предвидеть, что обстоятельства должны будут все больше ухудшаться и запутываться. Действительно, Фирмиан теперь часто приостанавливался, ожидал, нацарапывая длиннейшие буквы, чтобы благодетельная рука освободила от черного шипа световую розу, и, наконец, выпаливал: «Сними нагар!» — Он стал разнообразить глаголы и говорил то «Счисти!» — то: «Обезглавь!» — то: «Отщипни!» Или же он пытался внести приятное разнообразие другими частями речи и говорил: «Изготовительница уборов, пора делать уборку на свече. Тут на солнце снова появилось длинное солнечное пятно» — или: «Прекрасный ночник для ночных размышлений среди прекрасной ночи в манере Корреджио, — а пока что снимай!»
Наконец, незадолго до еды, когда угольная куча в пламени действительно поднялась высоко, он поглотил почти целый поток воздуха и, медленно цедя его обратно по каплям, сказал со свирепой кротостью: «Итак, я вижу, ты не снимаешь и не состригаешь, хотя бы черная головня росла до потолка. Ну, ладно! Лучше уж я сам буду театральным ламповщиком и трубочистом, пока не будет накрыто на стол; но за едой я, как разумный человек, намерен сказать тебе то, что следует сказать». — «Ах, пожалуйста!» — отвечала она весьма радостно.
«Конечно, — начал он, когда она подала ужин ему и себе, по паре яиц на каждую персону, — я возлагал много надежд на мои вечерние работы, ибо рассчитывал, что легкую обязанность снимания со свечи ты всегда будешь выполнять своевременно, тем более, что одна знатная римлянка для своего знатного супруга, Плиния-младшего, выражаясь по-купечески — наследника известной фирмы Плиниев, сделалась даже светильником и держала светильню. Но теперь ничего из этого не получается, ибо я не могу писать ногой под столом, как некий безрукий счастливец, или в полной тьме, как ясновидящий. От всего светильника теперь единственная польза мне та, что он сделался старой лампой Эпиктета, при которой я изображаю стоика. Свечу, словно солнце, нередко постигало затмение, дюймов в двенадцать, и я тщетно желал, душа моя, хотя бы такой прозрачной мглы, какая часто бывает на небе. От проклятых свечных шлаков как раз и зарождаются у авторов темные мысли и мрачные образы. О боже, если бы ты снимала как следует!»
«Ты, конечно, шутишь, — отвечала она, — я строчу куда тоньше, чем ты, а между тем я прекрасно все видела».
«Ну, так я докажу тебе психологически и с помощью науки о душе, — продолжал он, — что для писателя и мыслителя совершенно не важно, видит ли он больше или меньше, но свечные щипцы и свечной нагар, вечно торчащие у него в голове, словно путаются под его духовными ногами и мешают им двигаться, как лошадиные путы. Уже после того как ты с грехом пополам снимаешь со свечи и я начинаю жить в свете, я с нетерпением ожидаю минуты следующей стрижки. Но это выжидание, поскольку оно незримо и неслышно, не может состоять ни в чем ином, как в мысли; а каждая мысль вытесняет все другие, — и так все лучшие мысли писателя идут ко всем чертям. И все же я еще говорю лишь о наименьшем из зол, — ибо я мог бы нисколько не заботиться о том, что свечке свойственно смеркаться, а моему носу сморкаться; но когда страстно ожидаемого снимания нагара совершенно не происходит, — черная спорынья спелого свечного колоса растет все больше, — тьма заметно сгущается, — настоящий погребальный факел освещает пишущего полумертвеца, — и последний никак не может выкинуть из головы мысль о супружеской руке, которая одним-единственным движением могла бы освободить его от всех этих тормозящих оков; тогда, милая моя Ленетта, поистине трудно сочинителю не писать как осел и не топать как трамбовка, — по крайней мере, я мог бы порассказать об этом».
В ответ она стала уверять, что если это он взаправду и всерьез, то завтра она уж сделает, как он хочет.
Действительно, история должна ей воздать хвалу, ибо на следующий вечер она сдержала слово и снимала со свечи не только гораздо чаще, чем накануне, но прямо непрестанно, тем более, что он ее несколько раз поблагодарил кивком головы. «Однако, — сказал он наконец, но чрезвычайно ласково, — ты все же не стриги слишком часто. Если ты будешь исследовать фитиль до слишком мелких субсубсубдивизий (под-под-подразделений), то мы попадем почти что в прежнюю беду, потому что ощипанная свеча горит так же тускло, как при совершенно свободно растущем фитиле, — что ты могла бы иносказательно применить ко многим светочам мира и светильникам церкви, будь ты на это способна; лишь немного спустя после снимания и незадолго до него, словно entre chien и loup, наступает для души то прекрасное промежуточное время, когда она отлично видит; поистине, это небесное блаженство, когда черное на белом вдвойне правильно отмерено, в свече и в книге!»