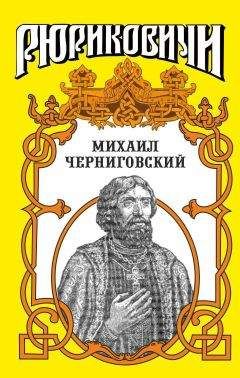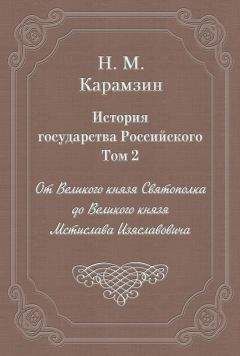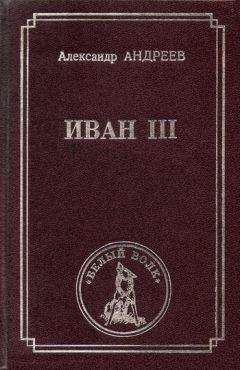Ульрих Бехер - Охота на сурков
В сарае затхлый сладковато-терпкий запах прошлогоднего сена смешался с запахом бензина. Опасная смесь: владелец сарая, видимо, не из тех, кто избегает риска. А вот и грузовик, стоит на двух досках, как на рельсах, задним бортом ко мне. Я двинулся вдоль правого борта, углубляясь в полутьму.
в матовую дымку проникающего сквозь ворота синего часа, и мне казалось, будто я крадусь вдоль длиннейшего грузовика в мире.
Вот наконец и радиатор. Сумеречного света вполне хватило моему дальнозоркому глазу: переднее крыло, правое, повреждено. Я недоверчиво ощупал его. Краска содрана со всей выпуклой поверхности крыла, точно ее счистило мощным скребком. Возможно, при столкновении крыло вогнулось до самого колеса и кто-то неумелой рукой его правил, оттого-то оно было на ощупь волнистым, точно по внутренней стороне его долго колотили молотком. Подозрение тотчас стуком отдалось у меня во лбу. Спички! — скомандовал мой внутренний голос, несмотря на опасную смесь сена и бензина. Но прежде чем я выполнил его приказ, послышались легкие, приглушенные травой шаги. Я машинально схватился за задний карман — пистолет! В высоком проеме синеватых ворот возникла огромная тень — человек, с длинными покачивающимися руками.
— Segner, waas wenderi mym Gaada? — властно спросила тень.
Я не понял; рука застыла на бедре.
— Ищу, — промямлил я, — это самое, ну…
— Уборную? — резко бросили мне наводящий вопрос.
Спускаясь за Клавадечером по тропе, я как бы мимоходом сказал:
— Я, по-видимому, заблудился.
Ни слова не возразив, Клавадечер отвел меня по булыжной площадке к пристройке, чулану, сбитому из толстых кедровых досок, на двери которого можно было прочесть две буквы: «р. р.» Открыв дверь, он включил свет, зашагал прочь, не удостоив меня даже взглядом. Я напряженно ждал, завернет он за угол дома или уйдет во двор. Но он вместо того встал на обочину площадки и, отвернувшись от меня, застыл в сгущающейся и все поглощающей синеве. Занятую им позицию я мог объяснить только тем, что он решил проследить за мной: помешать, если мне вздумается еще раз «заблудиться». И тут до меня донеслось тихое-тихое, прекрасно звучащее, вольное пение рыбаков, батраков или контрабандистов (кем уж они там были). Оно, казалось, захватило внимание хозяина «Чезетты», он даже подался вперед и замер, словно стоя на посту подслушивания.
Свет одинокой лампочки падал на открытую дверь уборной. Кто-то вслед за буквами «р. р.» чернильным карандашом нацарапал «с.» и еще три слова. Что бы они значили эти р. р. с.?
На устаревшем дипломатическом жаргоне это принятая аббревиатура от «pour prendre congé»? За буквами торопливо начеркано: «de ce monde».
«Pour prendre congé de ce monde?» — «Прощаясь с этим миром…» Буквы были, видимо, совсем недавно торопливо нацарапаны чернильным карандашом, но так, чтобы не бросались в глаза.
Несомненно, почерк де Коланы.
В пристройке над ямой сколочено сиденье, рядом прибит импровизированный, жестяной, переделанный из желоба писсуар; красноватые кедровые доски над ним испещрены вдоль и поперек самыми различными изречениями; начерканные простым и чернильным карандашом, вырезанные перочинным ножиком, они увековечивали мысли самого разнообразного характера — инфантильные, сентиментальные, похабные и даже политические, как, например:
Evviva il nostro duce Benito Mussolini! Mario Zoppi, Milano[138].
В «Чезетта-Гришуне» — вот диво — я выпил три литра пива
С германским привествием Юлиус
P. S. Я охотно бы трахнул фрейлейн Хоккенйос.
Шваб — свинья!
А в неуклюже вырезанном сердце нацарапано:
Barbla, la brama m’ardaiva
zoppad aint il cour,
barbla, ed eu chi t’amaiva
nu poss plü dir our!
Чтоб вам околеть, жиды поганые! Хайлъ Гитлер!
…от его мании величия, великий боже!
A Sils-Marie
j’ai perdu ma chérie
le reste est pleurer
et faire pipi.
Вот оно — то, что я искал, лихорадочно искал, как дополнение к нацарапанному на двери: каракули де Коланы, чернильным карандашом, латинским шрифтом (видимо, он пытался замаскировать их под записи, сделанные другой рукой) — нервные, торопливые и все же, исключая две-три ошибки в пунктуации, вполне грамотные:
Caro Nero-Bianco! На случай, ежели мы разминемся, пусть эти четыре изречения аббата Галиани[141], предшественника Ф. H., сопровождают Вас на Вашем чреватом опасностями пути:
Не должно рекомендовать человеку союза с природой, он будет неравноправным.
Мы не созданы для правды, правда не наш удел. Наш удел — оптический обман.
Надобно учиться сносить несправедливость и претерпевать скуку.
Смерть неотвратима. Так почему бы нам не веселиться?
15. VI. (подпись отсутствует)Я вышел на улицу и чиркнул два-три раза спичками, пытаясь зажечь новую сигару, но мне это не удалось. Моим усилиям препятствовала известная нервозность. В конце концов я добился своего и закурил. Синий час был на исходе; сквозь его уходящую дымку неестественно ярко и светло сверкала Венера, словно мишурная звезда на рождественской открытке. Пина. Свиданье с Пиной в полночь… Дымя сигарой, я зашагал к другой стороне площадки. Мен Клавадечер покинул свой пост, ни единого человека кругом. Я вдыхал сладковато-пряный аромат недавно срубленных сырых елей, но никаких ощущений во мне он не вызывал. Стало холоднее, будто природа откликнулась на мое душевное состояние, на мои смутно-леденящие подозрения.
Кто-то задернул на окнах зала занавески в красную клетку, сквозь окна-бойницы едва-едва брезжил свет, отражаясь на булыжнике подъездной площадки. Но вдруг: металлически поблескивающий кружок; я собрался было пересечь площадку, но остановился. Что это? Нагнувшись, я поднял пятифранковую монету, да, никакого сомнения: серебряная пятифранковая монета.
Я взвесил солидную монету на ладони. Объяснить находку труда не составляло. Обронил деньги один из скрыто строптивых помощников Клавадечера. Можно передать находку Клавадечеру, с просьбой возвратить потерявшему, можно, но Мен, на мой взгляд, не похож на добропорядочного управляющего Бюро находок. Умнее взглянуть на мою находку с иной, иррациональной, так сказать, точки зрения, не с точки зрения моего безденежья, а с точки зрения того, что сюда, на форель, я приглашен, хоть и… хоть и мертвецом. Что ж. Advocatus de Colana, advocatus diaboli mortuus[142], подобный жест вполне в его натуре.
Зал пуст. Синева запаздывающих сумерек расширила его; скупой электрический свет одной-единственной лампочки, свисающей без абажура с потолка, так сильно выпятил на передний план кафельную печь — сегодня огонь в ней не потрескивал, — что обшитые кедром стены казались ящиком, в который втиснули эту печь. Неряха Терезина не потрудилась даже вынести тарелку с рыбьими костями. Я стукнул в заслонку и заказал кофе с граппой, Терезина появилась, неся под цоканье своих zoccoli дымящийся стакан и тот самый «аквариум»; обхватив его обеими руками, она небрежно плеснула мне в кофе водки, у меня же усилилось ощущение, что не столько небрежность определяла ее поведение, сколько настороженность. (Чего же она опасалась?) Я попросил счет, l’addizione, и она раздраженно бросила, словно была взбудоражена какой-то зловещей ссорой:
— Quattro franchi settante, servizio compreso![143]
Моя находка со звоном стукнулась о стол.
Терезина взяла монету и, выдохнув «Grazie», удалилась.
Медленно-медленно, стараясь ступать как можно бесшумнее, я обогнул печь, самую, как показалось мне, огромную печь, какую только складывали с того памятного дня (хотя, скорее всего, это случилось ночью), когда Прометей принес огонь с Олимпа. За печью, скрытую в ее мощной тени, я обнаружил лестницу. Незамедлительно, точно меня кто-то тянул, стал я карабкаться по сбитым ступенькам и скорее нащупал, чем увидел, вделанный в потолок люк. Огромная выпирающая нечь заслоняла скупой свет из зала. Осторожно одолев еще две-три ступеньки, я приподнял люк и точно нырнул в затхлую темень, где не слышалось ни единого звука, кроме едва различимого поскрипывания петель. Ни единого, даже слабого проблеска света; спертый воздух непроветриваемой крестьянской спальни-чулана, пропитанный запахами плесневелой соломы, кож, пота. Судорожно стараясь удержать люк приоткрытым, я придержал его своим плечом, вытащил спички, зажег одну, потом вторую. Рядом с люком — низкая ниша, ее как будто для спанья не использовали. Постельного белья не видно, только перина цвета заветрившейся ветчины, но такая измятая, точно на ней лежали. Однако на постель, которой пользуются, это похоже не было, скорее, удобное место для человека, развлечения ради подслушивающего у стены разговор в «Стюветте». Вернее, подслушивающего откуда-то с высоты. Этакий хитроумный пост подслушивания!