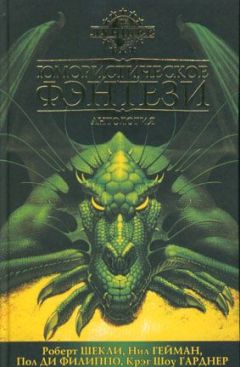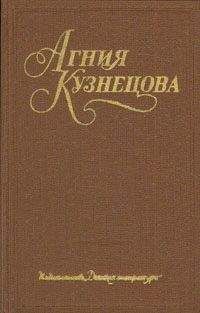Димитр Димов - Осужденные души
– Что вы сказали, сеньора? – вздрогнув, спросил иезуит.
– Я спросила вас, закончили ли вы?
– Не знаю, – тупо ответил он. – Я громко говорил?
– Нет!.. Очень тихо… Вряд ли кто-нибудь мог подслушать. Но не думайте больше об этом.
– Я должен идти… – быстро проговорил он, внезапно поднявшись с места. – Я себя неважно чувствую… Я полежу немного в своей палатке, Гонсало меня заменит. Спокойной ночи, сеньора!
– Спокойной ночи!..
Свесив голову, он мелкими шажками пошел из палатки. Но, приподняв полотнище над выходом, оцепенел, и слабый крик вырвался из его груди. То был крик потрясения и ужаса, едва слышный, сдавленный крик существа, которое летит в бездну и, парализованное страхом, не успевает даже повысить голос. Фани подбежала к нему. Монах опустил полотнище и стоял в оцепенении. Только глаза его, все еще расширенные от ужаса, напряженно смотрели в пространство.
– Что случилось? – гневно спросила Фани. – Дьявол, что ли, стоит здесь?
Но тут же она догадалась, кто может там стоять, и, не поднимая полотнища, сказала дерзко:
– Войдите, отец Эредиа!..
Ответа не последовало, и никто не вошел.
Вдруг ей стало страшно, как-то глупо страшно, что она увидит его именно теперь, в этот поздний час и после того, как он слышал весь ее разговор с Оливаресом. Какое малодушие!.. Что может быть для нее желаннее такого случая? Даже если бы она целую ночь ругала Эредиа, ее слова во сто раз меньше уязвили бы и разъярили его, чем это могла сделать горькая исповедь Оливареса! Нет, она не боится его и не раздумывая нанесет ему еще один удар. Да разве она не изобличит его и в том, что он подслушал чужой разговор? Быстрым движением она рванула полотнище.
Эредиа стоял перед самым входом, недвижно, скрестив руки на груди (и одна рука сжимала, как обычно, ужасный, в черном кожаном переплете молитвенник). Сейчас, как никогда, он был похож на деревянную статую Лойолы, которую она видела в резиденции иезуитов в Толедо. Ей даже почудилось, что это, наверное, сам Лойола, бежавший из преисподней. Под слабым светом лампы его исхудавшее лицо казалось еще бесплотней и призрачней, чем обычно. Он не шевелился. Он даже не мигнул, когда она рванула полотнище. Черные блестящие глаза его были прикованы к несчастному Оливаресу и излучали какую-то демоническую силу, от которой тот цепенел. Теперь Фани почувствовала эту силу и на себе. Ее охватила мгновенная слабость, она почти не могла противиться этой повелительной неподвижности. И вместе с тем никогда лицо его не казалось ей более классическим и властным – это оливковое лицо испанского аристократа, в котором античный иберийский овал сочетался с резкими семитскими линиями, создавая неповторимый облик чего-то давно ушедшего, точно в нем виделись сразу или попеременно лица египетского жреца, центуриона римской когорты, кастильского рыцаря и святого. Она как будто поняла наконец, что именно в нем действует на нее так неотразимо и завораживающе и почему она пошла за ним в этот ад, где правят зараза и смерть. От него веяло героической силой народа, который некогда владел миром, романтикой прошлых времен и храбростью мужа, идущего к своей цели без страха, без колебаний и компромиссов, мужа, воля которого никогда не ослабнет. Но какой абсурдной ей казалась теперь эта цель, какими устаревшими и смешными были средства, которыми он хотел ее достичь! Неужели она все еще любит этого сумасшедшего идальго, этого церковного Дон-Кихота, эту средневековую куклу в рясе?…
– Чего вам надо? – спросила она гневно. – Вы похожи на тореро, когда он позирует перед репортерами. Может быть, вас оскорбил наш разговор о папаше Лойоле?
Но он не обратил на ее слова никакого внимания и по-прежнему пронзал Оливареса леденящим, пристальным и неподвижным взглядом. И тогда она увидела, как профессор схоластики вдруг задрожал, как искривилось его лицо, подогнулись колени. Потеряв всякую способность сопротивляться этому магнетическому взгляду, Оливарес упал на колени, приник к рясе своего начальника и стал целовать ее полы, сдавленно всхлипывая:
– Брат… отец Рикардо… виноват… виноват, грешная овца… прости меня, спаси меня, брат…
«Я сойду с ума», – подумала Фани. Вне себя от гнева на слабость Оливареса она схватила несчастного за ворот и стала изо всех сил поднимать его, пытаясь поставить на ноги.
– Встаньте, черт возьми!.. Встаньте!.. О чем вы его просите? Вы и правда овца…
Но Оливарес грубо оттолкнул ее, а потом обхватил обеими руками ноги своего начальника и стал целовать его башмаки, не переставая всхлипывать. То был противный и жалкий плач существа без воли, которое хотело спасти свое спокойствие и свою библиотеку, которое потеряло всякое достоинство и гордость. Не унижал ли этот плач еще более жестоко католический орден, не оскорблял ли он Эредиа еще глубже?
У нее пропало всякое сочувствие к Оливаресу, и она засмеялась тихо, злобно, мстительно, но вдруг осеклась, потому что демонические глаза Эредиа устремились на нее. «Этот идиот хочет загипнотизировать и меня, – подумала она невольно, – но святой папаша ему не поможет». Она выдержала его взгляд и спросила с усмешкой:
– Почему бы вам не испробовать argumentum bacculinum?[54] Может быть, он еще исправится.
– Выйдите, сеньора!.. – мрачно приказал Эредиа.
– Я не выйду, – заявила Фани дерзко. – Я хочу полюбоваться этим неповторимым зрелищем… Итак, что вы собираетесь с ним делать? Я думаю, двадцать розог могли бы вернуть его к святой вере.
Эредиа снова перевел взгляд на Оливареса, который продолжал корчиться у него в ногах. Фани заметила, что теперь в его глазах был не столько гнев, сколько разочарование и какая-то бесконечная глухая тоска. Может быть, он переживал одно из самых тяжких потрясений в своей жизни, может быть, падение Оливареса было для него таким же мучительным, каким был бы провал роялистского бунта в Пенья-Ронде. Если сердце и разум зрелого Оливареса изменили ордену, то чего можно ожидать от молодых воинов Христа? И как раз в тот миг, когда Фани показалось, что по его лицу скользнула тень сомнения и слабости, он отступил на шаг назад и, выбросив руку в пространство, выкрикнул дико:
– Вон из лагеря, Оливарес!.. Вон из ордена, подлец!.. Вон из церкви, несчастный!.. Ты слаб, и подл, и труслив, ибо в тебе нет бога!..
– Не кричите так! – холодно сказала Фани. – Вы перепугаете больных.
Оливарес, точно его хлестнули плетью, быстро поднялся и со странным спокойствием отряхнул землю, налипшую на полах его рясы.
– Отец… брат… – убитым голосом опять заговорил он, обращаясь к Эредиа.
– Вон! – бешено крикнул фанатик.
И дон Херонимо Оливарес, ученый комментатор Суареса и Фомы Аквинского, бывший иезуит, бывший солдат Христова воинства, бывший профессор схоластики Гранадского университета, вышел из палатки, оставив за собой тоскливую пустоту. Несколько секунд спустя вышел и Эредиа. Бесшумно, как призрак, Фани последовала за ним. Необъятная тишина висела над умирающим лагерем и степью. Даже стоны больных смолкли. Но трупы продолжали гнить, и воздух теплой летней ночи был пропитан зловонием мира, который разлагался и погибал.
Эредиа вошел к себе в палатку. Там, над его кроватью, в мерцающем свете лампады блестело серебряное распятие. Фани увидела, как монах преклонил колени перед распятием и губы его зашептали бесконечную молитву.
III
«Пора лечь, – думала Фани, возвращаясь к своей палатке, – Надо заснуть… Приму двойную дозу снотворного». Но тут же ей пришло в голову, что сначала нужно посмотреть, что с Мюрье. Наверное, Эредиа ушел из его палатки и никого с ним не оставил. Ее возмущение против иезуита возросло, когда она заметила, что из палатки Мюрье не пробивается света. Эредиа бросил его в темноте. Дойдя до палатки, она откинула полотнище и прислушалась: Мюрье спал спокойно. Все-таки она решила разбудить Кармен и оставить ее с ним. Но тут же ей пришло в голову, что сердечная слабость у больных сыпным тифом наступает быстро и неожиданно. Пока Кармен позовет Эредиа или ее, может быть уже поздно. «Я останусь с ним, – решила она, – и, если понадобится, сама сделаю ему укол». Мысль о том, что Мюрье, который приехал сюда ради нее, может умереть, опять подняла в ней прежнюю ненависть к Эредиа. Она снова вернулась к палатке Мюрье, нащупывая в кармане спички, чтобы зажечь лампу.
– Сеньора!.. – послышался шепот в темноте.
От соседней палатки, в которой спал Робинзон, отделилась высокая фигура брата Доминго. Монах придерживал рукой велосипед, на багажнике которого был укреплен узелок. Он осторожно положил велосипед на землю и подошел к Фани.
– Вы тоже не спите? – спросила она с досадой. – Ведь вас наказали!.. Кажется, мы все бродим по лагерю, как сомнамбулы!
– Нет!.. – сказал он загадочно. – Теперь мы не сомнамбулы. Теперь мы все очень хорошо сознаем, что делаем.
– Разве мы что-нибудь делаем?… Куда вы идете?