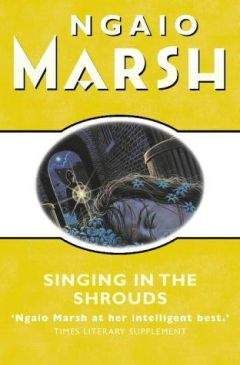Владислав Бахревский - Свадьбы
И вот здесь-то и случилась заминка: князья подняли местническую свару. Федор Шаховский бил челом на Мосальского. Ему-де с ним быть воеводой в одном полку невместно. Куракин ударил челом на Трубецкого: почему князя посылают в Тулу, а его в Крапивну. Трубецкой ударил на Куракина: оскорбился. Плещеев на Мосальского. Еропкин — на Ромодановского.
Война, а вести войско некому. Боярам нет дела до грабежей и разора русской земли, им важнее собственная спесь.
О татарах позабыли, засели в Думе разрядные книги листать.
По челобитной Куракина нашли: в 1604 году на приеме посла из Ватикана за Большим столом глядел брат князя Трубецкого, а за Кривым столом — служба это меньшая — глядел дядя князя Куракина. Этот дядя по боярским делам был выше отца, Федора Куракина, а сам Федор — второй сын. И выходит, ему можно быть ниже Трубецкого, челом бил не по делу.
Дума надумала, государь указал:
— Князя Куракина — в тюрьму, а потом выдать головой Трубецкому.
Еропкину было сказано: «Твой род в дворянстве молодой, и тебе не только с сынами Ромодановского, но и с внуками его можно быть в службе. А посему — в тюрьму».
И так разбирались с каждой челобитной и потратили на это целый день.
Глава пятая
Ночью Михаил Федорович проснулся от острой жалости к самому себе.
Темно. Лампада погасла.
Жутко, словно во всем белом свете остался он один.
Осторожно, боясь разбудить, подкатился под бочок безмятежной во сне Евдокии Лукьяновне. Она была теплая, домашняя, а вокруг за пологом кровати чудилась каменная ледяная пустота.
«Что это со мной?» — затосковал Михаил Федорович.
Зажмурил глаза — и чуть не вскрикнул: этакая рожа явилась.
Лежал, придерживая дыхание. Вслушивался в дворцовую тишину. Глаза сомкнуть — опять привидится нехорошее, с открытыми лежать тоже не мед. Видение не видение, а коли не отгонишь, так чередой и плывут до смерти надоевшие боярские хари.
Ох эти бояре! Попили они его, царской, кровушки всласть.
Что ни день, то тяжба. Все местничество. Все считаются, кто кого первей, кто кому ровня. Упаси бог, если родовитый исполнит одну и ту же службу с неродовитым. Для древнего рода нет злейшей порухи, все равно что с неба на землю пасть.
Вот и забавляется боярство вечной, бесконечной считалочкой, через силу, но игры оставить не смеет.
Местничество — российская неодолимая трясина, непролазная.
Посла персидского встречали. Назначили рынд для приема, а княжичи бегом из дворца: один спрятался, другой за нуждой побежал — удержу, мол, нету!
Время посла принимать, а как без рынд? Велел Василию Ромодановскому да Ивану Чепчюгову встать, а Чепчюгов челом бьет: ему с Ромодановским быть невместно. А тут князь Дмитрий Михайлович Пожарский рассвирепел: своим воровским челобитьем Чепчюгов позорит его, Пожарского. Он, Пожарский, в родстве с Ромодановскими, а дед у Чепчюгова был всего-навсего татарским головой! Господи помилуй! Для вразумления Чепчюгова батогами били.
Дело не дело — местничаются.
«Мне не успеть, — думал Михаил Федорович, — не наберу такой силы перед боярами, а вот Алеше это будет под стать. Рубить нужно местничество под корень, пока не погубило России, как содомово дерево, рубить!»
Подумал о сыне и улыбнулся. И страх прошел. Поцеловал тихонько Евдокию Лукьяновну в теплую щечку и заснул.
Как бы велика ни была российская дворцовая бестолочь, а дело все же делалось. Большой полк Черкасского шел на Тулу. Уже в пути этому полку было указано: если нуреддин займет тульскую дорогу, отрежет Тулу от Одоева, Крапивны и Мценска, в бой не вступать, а, сохраняя силы, отводить войско под стены Москвы, ибо в поле татары умельцы, а под стенами они вполовину слабее.
Осторожный государь слушал советы осторожного Шереметева.
Но большой битвы боялся и нуреддин Сафат.
Хаи Бегадыр, отпуская брата в набег, дозволил ему быть господином сорока тысяч сабель, но воспретил быть разбитым.
И, как только разведка донесла, что из Москвы к Туле идет воевода Телятевский, а на подмогу ему из Дедилова и Крапивны спешат сильные полки, нуреддин приказал отступать.
Откатываясь, татары попытали счастья в Мценском уезде: осадили Тагинский острог, но и его не взяли. Постояли в осаде двое суток и ушли.
Знать бы нуреддину, как был напуган его набегом боярин Шереметев, знать бы, какие указы посылал он князю Ивану Борисовичу Черкасскому, но нуреддин сам шел в набег с оглядкой.
Москва отделалась легким испугом и потерей двух тысяч, взятых в полон.
Нуреддин Сафат Гирей стоял перед братом ханом Бегадыром Гиреем. В тронном зале тесно. Кажется, весь знатный Крым собрался здесь ради встречи нуреддина, вернувшегося из похода. Но это не торжественная встреча и не страшный суд. Это очередная комедия хана Бегадыра. Он разыгрывает ее шумно и старательно. Пусть в Истамбуле услышат и поверят.
— Как ты посмел без моего ханского ведома сделать набег на земли брата моего, русского царя? — сверкая глазами, кричит Бегадыр.
А понимать это надо так: что же ты, Сафат, столь робко тыкался от городка к городку? Почему ты не одержал ни одной большой победы? Отчего русские не испугались нас и не прислали нам послов, умоляя взять назад Азов? Почему ты, имея сорок тысяч сабель, привел только две тысячи полона? Да и эти две тысячи — только счет, половина рабов — старики и старухи.
— Неужели тебе неведомо, безумный, что султан Мурад IV запретил набеги на русские украйны? Султан Мурад IV в братской дружбе с русским царем, и ты, раб султана, посмел предаться своему безумству, которое грозит нарушить эту дружбу?
Хан Бегадыр визжал от ярости. И тут он не лгал. Он страшился гнева Мурада. Набег — первое большое неповиновение воле Истамбула. Был бы разбой удачным, вернули бы русские, убоявшись, Азов, — султан и не вспомнил бы о своем запрете. Но две тысячи полона слишком малая добыча.
На лицах мурз и беев неподдельная тревога. Многие из них участники набега. Если хан брата не пощадит, чего же ждать им?
— Нуреддин Сафат, — торжественно изрекает приговор Бегадыр, — я повелеваю тебе удалиться с глаз моих.
Толпа шумно перевела дух, головы мурз и беев потупились, скрывая ухмылки и улыбочки, — балаган. Все кончилось балаганом.
Через час в том же зале, опустевшем, душном от недавнего человеческого скопища, хан еще раз беседовал с нуреддином.
Хан все так же сидел на троне, а Сафат стоял, снизу глядя на старшего брата.
— Поди сюда, — позвал Бегадыр.
Сафат нерешительно сделал два шага.
— Иди сюда, ко мне. Не бойся.
Сафат подошел к ступеням трона.
— Садись на мое место.
— Великий хан…
— Садись, я так хочу, Сафат.
Взял брата за руку, усадил возле себя, успокоительно обнимая и похлопывая по плечу. Потом встал и сошел с трона. Занял место Сафата в десяти шагах от престола и спросил:
— Неудобно?
— Неудобно! — поерзав на троне и удивившись своему открытию, согласился Сафат.
— Все ж таки место это очень высокое, Сафат! Погляди-ка получше. Разве ты не видишь из-под этого балдахина Истамбул, Москву, Краков, Яссы, Исфагань, Стокгольм и даже Рим? И не страшно ли тебе с этого высочайшего места услышать свои собственные слова, ибо эти слова долетают до каждой из этих столиц?
Бегадыр вернулся на свое место, Сафат вскочил, но Бегадыр снова усадил его.
— Не сердись на меня, брат. Сегодня я ругал не тебя, а провидение. Нам с тобой не повезло… Если меня с этого места все слышат, то и я слышу многих. В Крыму теперь всякий болтает — поход не удался. Скажи, что бы ты сделал на моем месте?
— Брат мой, ты поступил мудро.
— Мудро? — Бегадыр усмехнулся. — Поступить мудро — это отправить тебя в цепях к пьянице Мураду на съедение. Тогда бы и все мурзы прищемили бы хвосты. Я поступил, Сафат, как любящий брат. Как несчастный старший брат. Запомни это.
Сафат низко склонил голову, но Бегадыр, играючи, толкнул его в плечо.
— Я вот что придумал: ты сегодня же отправишь в Москву гонца. С извинениями. Набег, мол, произведен подневольно, по приказу из Истамбула. А в Истамбул мы отправим подарки Кёзем-султан и Мураду. Тут уж тебе самому раскошеливаться! Кёзем-султан любит драгоценные камни, а Мураду отправить самых отборных пленников. Мужчин. Три сотни, думаю, будет довольно. Только самых отборных! И если таких не найдется среди полона, купи у Береки.
Сафат опустился перед братом на колени и поцеловал в приливе благодарных чувств и самоунижепности ханский сапог.
* * *Доказывая любовь и преданность своему брату, нуреддин в тот же день отправил гонца в Москву и сам приехал к еврею Береке.
Конторка ростовщика, ссужавшего деньгами государей и государских послов, была похожа на погреб. Низкая дверь впускала в сводчатую палату с одним окошком за двойной железной решеткой. В палате стол, скамья для хозяина и скамья для дельцов, печь в углу, голые стены, голый пол. Кованый сундук для бумаг и денег. Единственным украшением этой каменной берлоги был высокий стул, обитый красным бархатом, с двумя рядами золотых гвоздиков на спинке.