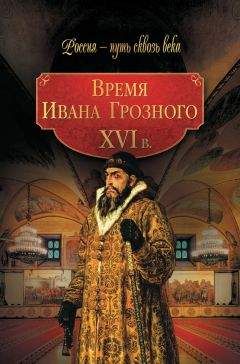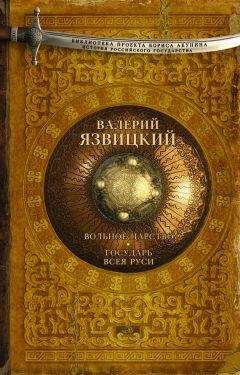Михаил Козаков - Крушение империи
— Тэк-с. Однако, господин Теплухин, это не может помешать моему решению; я должен с вами поговорить кое о чем. Вы отлично меня понимаете, надеюсь. Пойдемте. Стоять на одном месте не рекомендуется: зря только привлекать к себе внимание… Вот уже добрых полтора часа я издали наблюдаю за вами — и здесь и в театре, и мне не хотелось вас тревожить. Но, посудите сами, я ведь для этого и приехал сюда!
Они уже медленно, останавливаясь почти после каждой фразы и поглядывая друг на друга, шли по саду: у обоих была сейчас одна и та же походка. Они оба были равного роста и телосложения. Со стороны оба походили на, мирно, деловито беседующих людей, которым некуда торопиться, у которых нет сейчас никакой заботы.
Они еще не вышли из полосы света, падавшего с разных сторон от двух больших шарообразных газовых фонарей, и Теплухин хорошо видел своего неожиданного собеседника.
Губонин бросал исподлобья внимательные косые взгляды, коротко задерживавшиеся на теплухинском лице и сразу же соскальзывавшие с него и пропадавшие где-то в стороне, как только Иван Митрофанович замечал их.
Губонин вертел в руках маленькую помятую веточку сирени. Он каждую минуту подносил ее к носу, а Иван Митрофанович думал в этот момент, что Губонин делает это нарочно, чтобы закрыть веточкой свой голый, незащищенный рот, вокруг которого, как показалось, блуждала неясная, едва сдерживаемая улыбка внутренней несобранности.
Приезд Губонина и встреча с ним поразили Ивана Митрофановича, тем более что он не представлял себе точно в качестве кого, с какой целью приехал сюда этот человек. Цивильный костюм и панама Губонина скрывали его принадлежность к какому-либо ведомству. Но что неожиданная встреча с этим человеком таила в себе опасность для него, Теплухина, — он инстинктивно почувствовал это тотчас же и потому насторожился.
— Там, у откоса, я высмотрел удобное место, — продолжал разговор Губонин. — Сейчас там пусто, и нам никто не помешает. Не правда ли?
— Как вам угодно. Мне все равно, — сдержанно ответил Иван Митрофанович и свернул круто на боковую аллею, которая была кратчайшим путем к откосу.
Ему действительно было безразлично в этот момент, где произойдет их разговор; он хотел только одного: чтобы разговор этот как можно скорей вскрыл цель губонинского приезда, чтобы наступила, наконец, какая-либо определенность, потому что ему казалось, что Губонин станет хитрить, присматриваться к нему и проверять свои наблюдения, а Иван Митрофанович ждал сейчас точных вопросов и предложений.
«Да, вот именно — какие-то предложения хочет сделать Губонин, чего-то обязательно хочет добиться!» — решил Иван Митрофанович и пожалел, что в аллее темно и он не может в эту минуту увидеть как следует губонинского лица.
Он ускорил шаги. Аллея показалась темней и же, чем была на самом деле. Теплухин почувствовал себя словно сплюснутым, сжатым разросшимися с обоих боков деревьями. Он потерял свободу движений, он ощутил внутреннюю скованность.
Подошли к откосу, сели на скамью. Когда забегал ощупывающе, со стороны в сторону, губонинский электрический фонарик, Иван Митрофанович инстинктивно чуть-чуть отклонился порывисто от своего соседа, как будто бы тот намеревался сейчас бросить и в его лицо резкий пучок недоверчивого света.
— Начнем, пожалуй… — иронически пропел Губонин. Он держал в руках папиросу и вынутую из коробки спичку, но не зажигал их.
— Что вам надо? — прервал его Иван Митрофанович.
— Вы правильно, но поспешно ставите вопрос. Не торопитесь, — тем паче что ответ… ну, ближе, скажем, чем вы сами предполагаете. Простите… Одну минуточку.
Спичка высекла о коробок хилый, робко вспыхнувший огонек. Секунда — и он, моргнув печально, умрет. Но Губонин, умело держа спичку, заботливо и осторожно закрыл ее глубоким и плотным полукругом друг к другу сдвинутых ладоней. Пальцы легонько повертели спичку, — фиолетовый огонек медленно схватил ее кончик и вдруг жадно побежал по ней вверх.
Губонинские ладони светились изнутри восковатым ровным светом. Он поднес — уже небрежно — сгорающую спичку к торчащей во рту папиросе, зажег ее и отбросил спичку на траву.
И покуда он все это делал, Иван Митрофанович, против своей воли, сосредоточенно и с любопытством следил за судьбой огонька.
— Ну, вот… я и готов, — тем же спокойным тоном продолжал Губонин, затягиваясь папиросой; сухой табак потрескивал и ронял крохотные искорки. — Я вовсе не хочу затягивать разговор, — если вам это могло показаться почему-либо. Ни в коем случае! Но когда люди собираются говорить интимно и проникновенно…
— Ого-го!
— Не иронизируйте, Иван Митрофанович! Повремените. Прошу верить: наша беседа должна быть интимной и задушевной. А вот в таких случаях люди стараются устроиться поуютней и — внутренне — поближе друг к другу.
— Что вам угодно? — вновь повторил Теплухин свой вопрос и озлобленно посмотрел на собеседника.
Губонин сидел сгорбившись, подавшись корпусом вниз, упираясь локтями в широко расставленные колени. Это была поза бездельника, ничем не озабоченного мечтателя, но ни в коем случае не человека, собиравшегося вести осторожный, строго конспиративный разговор, и Теплухин недоуменно подумал об этом и еще пуще разозлился.
— Мне угодно, — не меняя позы, сказал Губонин, — довести до вашего сведения, что я переменил место службы и живу теперь в Петербурге. Затем: по роду своей службы я уполномочен в числе прочих своих обязанностей интересоваться вашей судьбой. Вы меня, надеюсь, понимаете? Еще одно замечание: последний год чашей жизни известен всего лишь трем официальным лицам, считая и меня. Знал кое-что еще один человек — иркутский генерал-губернатор, но, как вам, вероятно, известно из газет, он скончался недавно.
— Меньше одним прохвостом! — не утерпел Иван Митрофанович, но совсем, совсем не это захотелось выкрикнуть сию минуту: он уже догадывался о цели губонинского приезда!..
— Напротив, — все тем же невозмутимым тоном возразил Губонин. — Старик был ревностным и честным служакой. Впрочем, не в этом дело. Объезжая юг, я заехал в Смирихинск повидаться с вами и просить вас об одной услуге.
— Никакой! — все более и более ожесточался Теплухин.
— Не торопитесь с ответом, Иван Митрофанович.
Подброшенная щелчком папироса полетела в траву, Губонин выпрямился и поправил сползшую набок панаму.
— Вы сами поймете, Иван Митрофанович, — тихо, но настойчиво произнес он, — что есть вещи, которые каждый из нас уже обязан сделать. Не правда ли?
— Я не буду служить в охранном отделении, — знайте это! Я отказался от борьбы с вами, это не значит, что я буду служить вам.
— Формула ясная, но не устраняющая возможности нашего с вами соглашения. Я отнюдь не предлагаю вам служить в охранном отделении.
— То есть… как же это? — сбился в мыслях Иван Митрофанович и перевел взгляд на своего врага.
Густая черная бородка медленно поползла навстречу, ведя за собой голый, тонкий рот с острыми, приподнятыми кверху уголками. Бородку эту Теплухин видел и раньше еще, на каторге, но сейчас, на ночном свету, она показалась ему почему-то неживой, нарочитой. Бородка путала, сбивала с толку Теплухина, а вот, казалось, сорвать ее с губонинского подбородка, оголить его, — и Губонин сразу станет совсем понятным, разгаданным.
— Служить у нас я вам не предлагаю, Иван Митрофанович. Прекрасно понимаю, что вы не можете стать таким «профессионалом», каких у нас много. Надо быть глупым и некультурным жандармом, чтобы на это рассчитывать. Прельщать вас золотыми копейками, сделать вас платным осведомителем, — это не входит в мои планы.
— Вы пытаетесь быть «умным жандармом»?
— Не надо колкостей, Иван Митрофанович, умный я или глупый — на это я вам потом отвечу. Ну, так вот. Вопрос ставится не о службе у нас.
— Короче, пожалуйста. Какой подлости вы ждете от меня?
— Какой еще подлости? — легонько засмеялся Губонин, но тотчас же принял свой прежний, спокойный и бесстрастный тон. — Вам угодно употреблять это слово? Какой услуги? Меньшей во всяком случае, чем та, какую вы уже однажды оказали государству, беседуя со мной в Иркутском тюремном замке. Вы, конечно, все помните? Та-ак… Условимся, значит, что вы все помните. Благодаря вашему показанию остатки киевской организации спустя несколько месяцев…
— Можете не сообщать, — прервал его Иван Митрофанович и сам удивился тому, что голос его, сорвавшись, прозвучал вдруг громче обычного, хотя слова еще за несколько секунд до того были наготове для ответа, так как предчувствовал уже, о чем станет говорить Губонин.
Черная бородка вновь приблизилась:
— Вы меня простите, Иван Митрофанович, мне было бы приятней вести беседу в другом тоне, но… вы сами виноваты.