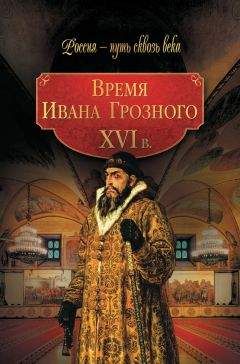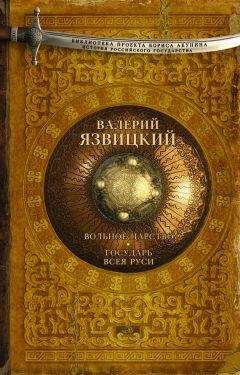Михаил Козаков - Крушение империи
И вдруг он опять заговорил, и Теплухин даже обрадовался теперь этому, потому что тягостно стало думать в присутствии молчащего победителя-врага.
— Разъезжаю я по России, Иван Митрофанович, и всматриваюсь в нее. Вы не думайте, что люди моего «ведомства» все уж такие тупицы, прохвосты и негодяи. Ведь так привыкло думать так называемое «прогрессивное» общество? Я сам, конечно, интеллигент, но по совести говорю: презираю громадную часть этих российских культуртрегеров. Не уважаю, Иван Митрофаныч!.. Вот съезды теперь всякие устраивают: шумим, братцы, шумим! Что ни съезд, то всякие легальные либералы, вроде Думского Карабаева, стараются исподтишка протащить кусочек «политической» революции. Гинекологи ли съезжаются, агрономы — все равно! Жив, мол, еще либеральный курилка. А посметь? — На то и зайцы! А могли бы полезное дело делать в нашей азиатской стране. А дело делали бы, — не казалось бы уже все таким «деспотическим, варварским».
— Какое дело? — поспешно спросил Иван Митрофанович. Ему показалось, что неожиданная словоохотливость Губонина вот-вот себя исчерпает и в разговор, как в затухающий костер, следует подбросить сухие сучья новых слов.
— Ясно, какое… (Папироска, как и в первый раз, подброшенная упругим щелчком, полетела в траву.) Стране нужны квалифицированные работники, а наш массовый интеллигент не знает своего дела и не любит его. Он — плохой инженер, непрактичный техник, необразованный врач, некультурный учитель… Пусть занимаются своим делом, а не провоцируют «обиженный» народ.
Он несколько минут еще говорил, но Иван Митрофанович не вслушивался хорошо в его слова, изредка подхватывал только какую-нибудь фразу, и тогда ему казалось, — вопреки первому впечатлению, — что Губонин не так уж умен, что в мыслях его нет ничего оригинального и что все это ему, Теплухину, давно уже знакомо, и, заметив, что Губонин умолк, он озабоченно сказал:
— Ну… а дальше что? — и сразу же понял, что спросил невпопад: Губонин закончил свою речь сообщением о неудобствах в здешней, смирихинской, гостинице.
— Вы меня не слушали, оказывается! — громко расхохотался он, но тотчас же понизил голос и стал, как несколько минут назад, серьезен и настойчив. — Итак, мы договорились, — не правда ли? Мы друг друга хорошо понимаем. Я буду поддерживать с вами письменную связь, язык — условный, конечно. Иногда (на беспокойтесь: не часто, не часто!) я буду руководить… вашими впечатлениями и в свою очередь ставить вас в известность о том, что может и для вас представлять интерес. Уверяю вас, это не так скучно бывает подчас. Запишите мой адрес. Ну, ну… зачем нервничать, вот уж не ожидал. Смотрите, не уроните чего-нибудь. Адрес такой: Петербург, Ковенский переулок, тринадцать, квартира двадцать один, инженеру Вячеславу Сигизмундовичу Межерицкому. Ну, чему удивляетесь: это моя квартира!
Он встал, оттянул, потоптавшись на одном месте, немного наползшие наверх брюки, поправил на голове франтоватую панаму. Над ней, пьяно качнувшись в сторону, пронеслась, едва не сбросив, коротко посвистывающая летучая мышь.
Издалека доносился шум выходившей из театра толпы.
— Пойду в ресторан — поужинаю, Иван Митрофанович… Попрощаемся здесь, что ли?
Иван Митрофанович молча последовал за ним.
Входя в темную аллею, он оглянулся и посмотрел на откос. Чуть пониже края его, причудливо, по-человечески согнувшись, стояло голое сучковатое дерево, нахлобучив на себя черную мохнатую папаху листьев. Он не знал, как близко от дерева неподвижно лежал уставший, изумленный человек.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Последний мирный день на заводе Карабаева
Сегодня новая заводская динамо-машина должна дать свет в красные домики рабочего поселка.
Георгий Павлович Карабаев пожелал придать событию некоторую торжественность: рабочие были отпущены раньше на час, а сам он в этот день приехал к торжеству не один, а вместе с Татьяной Аристарховной.
Она никогда почти не бывала на заводе; она даже не посетила его после переоборудования и расширения, проведенного в прошлом году: собралась посмотреть, но занемогла в то время и с тех пор не искала случая съездить в Ольшанку, Карабаев же не предлагал. Он мог однажды только пригласить, порекомендовать, но навязывать что-либо жене, а в данном случае эту поездку — это никак уж не входило в его привычки и не было свойственно его характеру.
Так было и во всем в их совместной жизни.
Георгий Павлович полагал, что достаточно уже одного того, что жене известно его мнение по тому или иному вопросу, и оно тем самым должно стать и ее мнением.
Его роль и значение в семье хорошо усвоены были всеми близкими, а интимней и лучше всех — Татьяной Аристарховной.
Она любила его и была предана в своей привязанности, но он приучил ее к тому, чтобы любовь эта замкнулась в самой себе и всегда таила для любопытства посторонних остроту и свежесть неразгаданности, а привязанность лишена была бы малейшего проявления сентиментальности.
Он внушал ей мысль, что при ином поведении может пострадать в глазах других ее достоинство и женское обаяние, а Татьяна Аристарховна была самолюбива и дорожила своим завидным положением жены такого человека, как Георгий Карабаев, и потому приняла без труда и это его указание.
Георгий Павлович умел по заслугам вознаграждать всякого своего союзника — тем более он был щедр в отношении такого интимного и верного союзника, каким была для него в жизни Татьяна Аристарховна: жена, мать его детей, хозяйка его дома. Он очертил ее жизнь широким, просторным кругом материальных и культурных возможностей, желаний, удовольствий; она могла считать себя счастливой.
Он завоевал себе право на свободу и на независимость своих поступков: это было то преимущество, которым, по его мнению, должен был пользоваться. В частности, короткая связь с женщиной в Киеве, в Петербурге, где приходилось бывать, или совсем случайная тут же, в Смирихинске, о чем, кстати, никто никогда точно не мог знать, была ему наградой за приятный, но бесстрастный и однообразный ритм семейной жизни. (Так в последнее время он не прочь был осторожно приволокнуться за вдовой поручика, Людмилой Петровной…)
Другое, во что не допускал ничьего вмешательства, — было его занятие промышленника.
Фабрика и завод, всякие промышленные и коммерческие дела, которые вел с большим умением и недюжинной изобретательностью, — все это оказалось его призванием в жизни!
Из двух своих предприятий он больше любил кожевенный завод. Фабрика также была доходной, но вырабатываемый продукт — крестьянская махорка — казался Георгию Павловичу каким-то простецким, невнушительным, мелколавочным и недостойным того, чтобы помечать на своей упаковке его высокомерную карабаевскую фамилию. Он не позволял печатать ее на копеечных пачках, раскуриваемых мужиками, извозчиками и солдатами!
Фабрика давала немалую прибыль, но все же к махорке своей Георгий Павлович не переставал в душе относиться иронически, с непонятным презрением, про себя называя ее почему-то «нюхательным табаком».
Другое дело — завод! Выросший, заново созданный им, механизированный, «мускулистый» завод!..
В нем словно заложено волевое, мужское начало самого Георгия Павловича, часть энергии его и силы (часть, потому что вся не нашла еще своего воплощения!): завод управляет здесь, диктует свою волю, держит в повиновении присягнувшую ему, покоренную крестьянскую землю.
И Карабаеву было приятно сегодня показать жене своего любимца, еще издалека посылавшего ему навстречу отсвечивающуюся на солнце, приветливую яркозеленую улыбку своих свежеокрашенных крыш, самодовольный дымок трубы и строгое спокойствие каменных широких корпусов.
Он приехал с Татьяной Аристарховной, когда работа еще не была приостановлена.
В заводской конторе их встретили служащие и в том числе Теплухин.
Довольная, что увидела здесь знакомого человека (а по настоящему «знакомыми» считала тех, кто бывал у нее в доме), Татьяна Аристарховна приветливо поздоровалась с ним за руку, удостоив всех остальных бесстрастным ответным кивком головы. Она решила, что иначё и не должна поступать, не уронив в их глазах свой авторитет хозяйки завода.
Она прошла вместе с мужем и Теплухиным в директорский, карабаевский, кабинет. Ей казалось почему-то, что здесь перестанет преследовать ее этот острый зловонный, запах кожи, отравляющий вокруг себя воздух на далекое расстояние..
Неужели же и здесь, в его кабинете, такой же едкий запах?.. Ведь должна же быть, — обязательно должна быть, — какая-то разница между ним и всеми здесь работающими?! И, убедившись сразу же, что и в кабинете тот же запах, ка ой и во всей конторе, Татьяна Аристарховна горько улыбнулась: