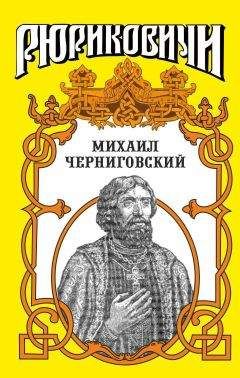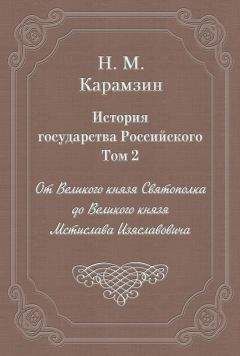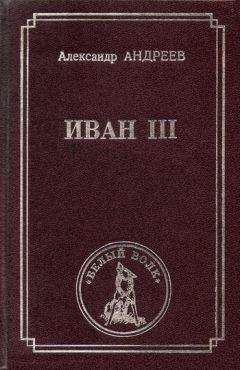Ульрих Бехер - Охота на сурков
Редко бывал Гюль-Баба столь разговорчив со мной, как в этот час. Аргон, неотрывно глядевший назад, словно очнулся и поплелся, деревянно переставляя ноги и склонив голову, к острию серповидно изогнутого берега.
— Шесть тысяч лет спустя в судьбе лошади наступает поворот. Ей приходит конец. Первый признак тому: этот сверхчеловек из сверхчеловеков, этот Гитлер-Гюттлер…
— Шикльгрубер…
— …при всем своем фатальном пристрастии к героической позе и фальшивой романтике ни разу не сел в седло. Нельзя же ему свалиться с лошади, исчез бы тотчас бесследно окружающий его ореол покорителя мира. Представь себе: Наполеон без лошади. После шести тысяч лет она свое отслужила. Отмучилась. Смотри, вон она трусит, мирно куда-то трусит…
Отойдя уже довольно далеко, Аргон кое-как перепрыгнул, скорее даже переполз через стену агав и двинулся к хижине, окруженной тутовыми деревьями.
— Иди-ите назад! — донесся крик Душана, ответ Джаксы гремит оглушающе. А мне он коротко шепнул:
— Пошли.
И посмотрел на небо, я проследил за его взглядом, и внезапно мы увидели — тонкий-тонкий серпик юного месяца повис на ветвях сосны; до сих пор вечерняя мгла скрывала его.
— Ave luna — юная луна, приветствую тебя!
По боснийскому обычаю Джакса послал серпику воздушный поцелуй, вполне галантный жест.
— Подумать только, луна у нас — мужского рода, вот уж поистине самое большое недоразумение в германской мифологии. Гляди-ка, разве тут над нами не маленькая и нежная богиня — Луна, а там, на горизонте, разве не господин Гелиос мчит на семерке багряных коней…
Гюль-Баба закурил трубку и ткнул ею в сторону острова Вис, во мгле, объединившей небо и море, я увидел колесницу, влекомую шестеркой или семеркой лошадей. Казалось, колесница медленно удаляется в облаке розоватой пыли. Я увидел и Аргона — в относительной дали, среди тутовых деревьев, — розовато-багряный годовалый жеребенок, изготовившийся к прыжку, чтобы умчаться галопом, выбивая копытами искры из гальки. Сгорая от желания узнать, не стал ли мой спутник также жертвой оптического обмана, я взглянул на Джаксу и обнаружил, что багряный цвет его берета слился с багрянцем солнечного захода.
— Теперь Аргон похож на мустанга, — сказал Джакса. — Не находишь?
Стрекот цикад и тут же другой стрекот: с восточной стороны Йеронима застрекотали на неправдоподобно высоких нотах скрипки.
— Хусейндинович. Или пифагорова музыка сфер, а? Чуть-чуть философии и математики, теорема Пифагора и музыка, астрономия, и лирика, и мирное состязание, и игровое представление, игра… и смерть.
— Извини?
— Олимпиада у Шикльгрубера — ну и ну! Взбесившаяся мелкобуржуазная душонка, а туда же — подражает великим грекам. Орфей Фракийский играл на своей лире перед диким зверьем и в конце концов даже получил разрешение сыграть в царстве мертвых — а все любовь! Кроме шуток, это же что-нибудь да значит! Тебе, конечно, известно, что первые Олимпийские игры были орфическим культом мертвых. Наиболее изысканная форма варь-е-те. На Олимпийских играх музицировали, философствовали, дискутировали, декламировали, занимались математикой, жонглировали, метали диск или бегали… в честь милых сердцу теней…
Он внезапно пошел прочь, оставив меня на заросшем агавами холме. Легко лилась речь (словно у опытного лектора) этого обычно столь молчаливого человека, а звучание отменного, но благодаря австриацизмам своеобычного немецкого языка, окрашенного не только энергичным раскатистым южнославянским «р», но и тембром всех языков мертвой двуединой монархии всей Дунайской земли, я слышал еще долго, пока его не поглотили неправдоподобно высокие звуки скрипки. Сквозь стройные стволы сосен и своеобразно искривленные стволы олив я не мог разглядеть музыканта, а видел лишь толчею огромного стада, средь которого взад-назад сновали, едва возвышаясь над светло- и темномастными овцами, лилипуты в панамках. Но какого бы цвета ни были овцы, все и вся уравнивал багряно-розовый отблеск заката.
Собравшись уже вступить вслед за Гюль-Бабой на исчезавшую во мху тропинку, я увидел, что он шагает к стаду. Его светло-серый полотняный костюм, залитый багрянцем последних минут заката, стал очень похож — что впервые бросилось мне в глаза — на шкуру белого липицанца. Джакса не размахивал руками, а заложил их по своей мапере за спину. Возможно, из-за рыхлой мшистой почвы, шагая, он высоко поднимал ноги, сгибая их в коленях, как иноходец или липицанец, выполняющий по всем правилам искусства pas d’amble[85].
— Очень мило, Требла, что ты так тревожишься.
— Тревожусь?
— За него.
— Я не за него тревожусь. Не хотел бы только, чтобы…
— Я тебя хорошо понимаю. Но извини, ты его плохо знаешь.
— Как это я его плохо знаю. Я знаю Гюль-Бабу с…
— И все-таки ты его плохо знаешь, если полагаешь, что, скрывшись за именем адвоката де Коланы или всего федерального совета Швейцарской Конфедерации, сможешь побудить его искать спасения в бегстве.
— Но зачем же ему «искать-спасения-в-бегстве»? Я хотел бы добиться только одного: чтобы он вместе с твоей матерью уехал. На Хвар. Сей-час-же.
— Он предупредил Душана, что приедет двадцать девятого.
— Значит, все довольно просто. Вместо двадцать девятого он выедет шестнадцатого. Письмо де Коланы я отослал спешной почтой.
— Подумай только… — Ксана умолкла.
— Думаю.
— Подумай только. — (Словно она и не слышала меня.)
— Я все еще думаю.
— Подумай, как один из этих геббелесовских писак в «Ан-грифе»… Кажется, его звали Видукинд Вайсколь, как этот писака в геббелесовском «Ангрифе»…
Непроизвольный (и как всегда у меня визгливый) взрыв смеха.
— Хи-и! Откуда у тебя этот Геббел-е-с?
— А ты разве не заметил, что Максим Гропшейд никогда не называл его иначе? «Геббелес — колченогий германец, ученик еврея Гундольфа, обанкротившийся последователь Стефана Георга, Геббелес, который тщетно пытался получить место редактора у постоянного издателя Джеймса Джойса — еврея Даниеля Броди в Цюрихе…»
— Это тебе Максим рассказал? Об истории с Броди я ничего не знал. Откуда она известна Максиму?
— Он был лично знаком с Даниелем Броди. А ты этого не знал?
— Мне он никогда о том не рассказывал, — пробормотал я.
— А мне рассказывал. В те дни, когда я у него… Как бы сказать… недолго… была на лечении.
Я молчал; она молчала. Мы оба молчали, а в окно били струи дождя.
Наконец Ксана:
— …Этот Вайсколь, или как его там, напал в «Ангрифе» на «Джаксу и Джаксу», номер-де «Полковод Полковин» в варьете «Скала» разлагает боевой дух нации или что-то в этом роде…
— Национально-боевой дух.
— Или препятствует укреплению национально-дурацкого духа, а может, еще что… «Джакса и Джакса» препятствуют укреплению национально-боевого духа, и преступному сему действу следует положить конец», да, что-то в таком роде написал Вайсколь. В ответ Гюль-Баба, как тебе известно, досрочно расторг договор с Дуисбергом и покинул Германию в товарном вагоне, приспособленном для перевозки лошадей… так сказать, демонстративно в одном купе с Джаксой Седьмым.
— Об этих подробностях мне не известно.
— У тебя тогда полно было хлопот с шуцбундом. Немецким таможенникам Джакса, пересекая чехословацкую границу, не преминул разъяснить: «Приглядитесь внимательно к этому лнпицанцу, господа, это враг вашей нации».
— Уму непостижимо. А я никогда не слышал об этой истории…
— Вот теперь услышал. Из Австрии, однако, он не уедет в товарном вагоне. Во-первых, насколько я его знаю, его едва ли можно в чем-то убедить или разубедить. Если он решил ехать на Хвар двадцать девятого, так шестнадцатого он ни за что не поедет… И во-вторых, его вера в табу.
— В табу?
— Да… его… его ощущение, что он персонифицирует некое табу.
— Хммммммм? — (Мой невнятный вопрос.)
— Его неколебимая уверенность, что он — одна из австрийских достопримечательностей. Почти… почти легенда. И кто бы ни правил Австрией, пусть даже заклятый враг Джаксы, и тот не осмелится пальцем его тронуть.
Я промолчал, прекрасно понимая: мерзко молчать с моей стороны.
Во вторник ливьмя лил холодный дождь, я сидел за своим старым «ремингтоном» и кончал серию статей, подписанных Ав-стрияком-Вабёфом, а Ксана, подобрав ноги, пристроилась на кровати в своей рясе и писала, подложив под лист бумаги иллюстрированный журнал; кроссворд, занимавший целую страницу этого журнала, она решила в два счета. По заказу амстердамского издательства «Аллер де Ланж» она работала над новым переводом романа «Золотой осел. Метаморфозы» Луция Апулея. Не отрываясь от машинки, я «послал» ей свое мнение: