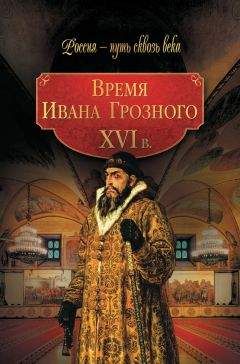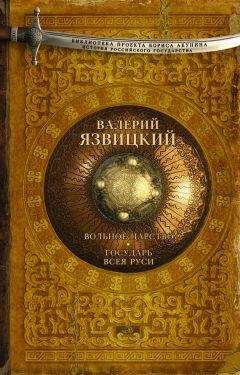Михаил Козаков - Крушение империи
— Я хочу, — ответила Ириша, — быть там, где ты.
— И вместе со мной, значит?
Он упрям, жесток, эгоистичен в своей настойчивости, — но ведь он любит и живет сейчас только этой любовью! Кто осудит его?
— И… вместе с тобой. Ну, Федулка, разве можно меня так смущать! Поди ты, право! Сам все знаешь, а нарочно так делаешь, чтобы я покраснела.
— Ириша… Ира… Любишь? Крепко?
Она медленно, чуть кивнув головой, смыкает ресницы, а ее светлокарие большие глаза льют горячий, притягивающий свет.
Тогда Федя хочет броситься к ней, сесть с ней рядом… но издали смотрит с крыльца Софья Даниловна, — и он останавливает себя, хватаясь обеими руками за сетру гамака и с силой притягивает его к себе вместе с полулежащей в сетке Иришей.
— Не раскачивай сильно, у меня голова кружится… Отпусти, родной! — почти шепотом молит она, — и он, торжествуя, выпускает из рук сетку.
Через минуту они ведут обычный разговор. Но так ли просто забыть, что любишь? Любовь! Что хранит в себе для Феди это древнее, но никогда и никем не забываемое слово?
Сейчас, в эту минуту, все забыто Федей, все подчинено этому чувству, и вся будущая его жизнь, весь мир зарождаются, ведут, свое начало с этой самой минуты, на этом самом месте, где сейчас находится он и Ириша…
Казалось бы, что он опьянен своим чувством, что, подчинив себя ему, он, как это бывает со многими, не отдает себе отчета в своих поступках и словах, что мысль его хмельна и безрассудна. Однако это было не совсем так, и он, — хотя и бессознательно, — но сам это чувствовал.
Как и все юноши его возраста, Федя не мог не испытывать естественной физиологической тяги к любимой девушке. Он вполне сознавал это при каждой встрече с ней, но эта тяга значительно уменьшалась, была почти неощутима, когда не видел Ириши. Его отношение к ней не носило платонического характера, но в то же время чувство его — любовь — не до конца было насыщено теми упрямыми, ведущими за собой человеческую волю желаниями, какими полон человек, познавший уже однажды полноту любовной, интимной близости.
Он мечтал о том, что через несколько лет Ириша станет его женой, и тем самым должна будет наступить в их жизни эта самая предельная физиологическая близость, но он никогда не предвкушал ее, не заострял в этом направлении своей мысли и своего инстинкта. К девушке любимой он хранил чувство целомудренное и внутренне-застенчивое.
Он сам провел черту, за пределы которой его чувство к Ирине могло, оказывается, и не идти.
…Утром, после пьяного ужина в клубе у Семена Ермолаича, Федя вспомнил все, что произошло накануне и посла попойки.
…Он вышел из летнего клуба поздно ночью. Кто-то из озорничавших товарищей тянул его вглубь пустого сада, где молодые студенты назло огорченному городовому опрокидывали скамейки и сбрасывали их под откос. Городовой и сторож бегали из одной аллеи в другую, ловили студентов и тщетно угрожали им полицейским протоколом. Федя не помнит, принимал ли он участие в этой озорной возне, не помнит и того, почему собственно он решил раньше других отправиться домой и как он очутился в знакомом калмыковском переулочке.
Он понимал, что пьян, что хмель крепко сидит в его теле, и ему хотелось поскорей дойти до своей квартиры. Вот он ужа миновал парадное крыльцо. Еще несколько шагов — и второе, дедовское, крыльцо, а за углом дома — уже и его, Федина, дверь…
Но в этот момент, когда он поровнялся с черным калмыковским крыльцом, дверь тихо заскрипела и кто-то в длинной белой сорочке быстрыми, но сонными шагами вышел во двор. Это была прислуга Калмыковых, Анастаська.
— Ишь ты… куда? — окликнул ее Федя и протянул к ней руку.
Она не предполагала идти дальше крыльца, но, увидев Федю, побежала, тихо засмеявшись, к погребу, за насыпью которого и скрылась на минуту. Федя осторожно вошел в сени. И тут он неожиданно столкнулся с дедом.
Незадолго до полного рассвета старик Калмыков, проснувшись, встал с кровати и, надев халат, вышел на веранду.
Еще не ушла поздняя луна, но быстро, с каждой минутой, она теряла свой матовожелтый лак. Лиловое облачко торопливо пробежало по зардевшемуся краешку неба: там разольется вот-вот первый нежный румянец еще недобежавшего солнца.
Калмыковский двор спит. Но вот-вот подымется в конюшне какой-либо залежавшийся за ночь конь, ударит тяжелым копытом по деревянному настилу и потянется мордой в пустые ясли — и разбудит своих чутких соседей; какой-то из них заржет, другой — порезвей — шарахнется задом в сторону, собьет наземь непрочно укрепленную перегородку и протянет свои теплые, влажные губы к встрепенувшемуся уху кобылы. Пойдет глухой шум по конюшне, и спросонок прикрикнет беззлобно на лошадей чутко спящий поблизости, на сеновале, ямщик; и все же перевернется на другой бок — удержать в приятном забытьи последние минуты неполного сна.
Конюшня первой предчувствует утро. А тотчас же за ней встрепенется наверху голубятня, и заворкуют нежные пары — сначала коротко, словно для того только, чтобы перекликнуться, проверить друг друга, а потом хлопотливей и уверенней.
В саду, за конюшней, вспорхнет шустрый воробей, каркнет и прохлопает шуршащими крыльями бездомная кочевница галка, в душном сарайчике встрепенутся бессчетные куры, индюки и гуси, и, как всюду и везде в этот час, ворвется озорно в чуть поколебленную тишину троекратный петушиный клич.
Бегут в норы, под амбар с овсом, рыскавшие у помойки крысы.
Потом проснется человек: в ямщицкой избе, на сеновале, на кухнях.
Проснется первым хромоногий староста Евлампий. Он спит в амбаре, где овес и вся ценная упряжь станции, спит — летом не раздеваясь, не снимая шапки и тяжело пропахших дегтем сапог, со связкой ключей под головой. Он выйдет со своей клюкой, запрет амбар, поковыляет в конюшню. Обойдет, просмотрит все стойла, поворчит, пожурит, поразговаривает на одном ему понятном языке с хозяйскими лошадьми. И, выйдя из конюшни в сопровождении уже неизвестно когда примкнувшей к нему, такой же хромой, как и он, дворовой собаки, пойдет будить ямщиков на сеновале, в избе, — чтоб вели они препорученных им коней на водопой к колодцу, чтоб засыпали им корм.
Ямщики, потягиваясь и зевая, высыпают на двор босые, в исподнем белье, вспотевшие в теплом сене, взлохмаченные. Ведут лошадей на водопой, и сами тут же, у длинного и широкого желоба, добродушно и беспредметно, матерщинясь, обливают друг друга водой.
Умывался ли когда-нибудь старый Евлампий, — того никто не видел.
Выкатится из-за безмятежно-тихого сада, прорвав тонкую, розовую паутину неба, раннее, еще незлобивое солнце: сначала багряный полукруглый лоб его, быстро, вслед, через минуту — издалека пылающие щеки, и, словно залив их жидким, легким золотом, выйдет из-под лба громадный и лучистый глаз. Так будет спустя короткий час.
…Старик Калмыков сидел, не шевелясь, на веранде, вдыхая теплый свежий воздух.
Так он часто поступал: не хватает дыхания в душной маленькой спальне, — проснется, выйдет во двор, подышит свежим воздухом и вернется к своей постели, чтобы крепко поспать еще часок-другой здоровым утренним сном. Так должно было бы случиться и сегодня.
Возвращаясь в комнаты, Рувим Лазаревич услышал чей-то неосторожный короткий стук. Скорее машинально, нежели заподозрив что-либо, старик на ходу тихонько толкнул дверь и заглянул в сени. Вихрем мимо пронеслась Анастаська. Растерянно усмехаясь, стоял у стены внук.
«Поди сюда»… — молча поманил Рувим Лазаревич к себе пальцем Федю, и внук на цыпочках последовал за дедом. Старик вернулся на веранду и сел на свое прежнее место.
— Басяк! — без гнева ругнулся Рувим Лазаревич и, улыбаясь одними глазами, посмотрел на стоявшего перед ним внука.
Они оба не знали еще, к чему должен привести так случайно начавшийся разговор. И в столь необычное время.
«Дома небось волнуются», — вспомнил Федя вдруг о матери, которая с полуночи, вероятно, ждала его прихода, и в первый раз в эту ночь забеспокоился.
И он шагнул с веранды на ступеньку, но тут же в нерешительности остановился, боясь своим быстрым уходом оскорбить деда.
Рувим Лазаревич, неслышно посмеиваясь, смотрел на внука. Ему казалось, что внук смущен, побаивается его, и ему было это приятно.
Уже давно никто из близких не делится с ним, Рувимом Лазаревичем, ни радостями своими, ни горестями, уже давно он — словно забытый, покинутый людским вниманием столб, с которого сняли провода семейной жизни и протянули их над ним, поверх него. И оказалось, что провода оттого не оборвались, не упали, семейные интересы не остыли, жизнь вокруг течет и гудит, но все это — в стороне от него, Рувима Калмыкова, не задевая его.
Между ним и Федькой возникают теперь какие-то новые, близкие отношения — вот с этим самым синеглазым, слегка скуластым, как все прародители-калмыки, смуглым Федькой.