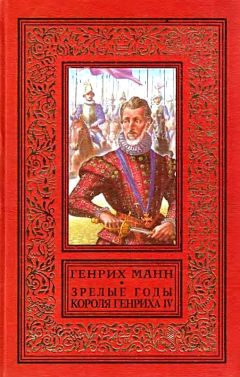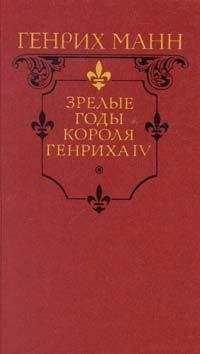Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
Кромвель выпрямился, теряя терпение, и голос возвысил, уже не поглядывая на дверь:
— Прошу вас, мастер, образумьтесь, сдержите себя, укоротите язык, и я вам действительно помогу.
Насмешливо бросил ему ещё один афоризм:
— Гораздо проще, конечно, обуздывать чужие страсти, но обуздывать надо свои.
Кромвель не выдержал и резко поднялся:
— Предупреждаю вас, мастер... Вы доведёте меня…
Не страшился угроз и только напомнил ему:
— Природой установлено так, что мы всегда требуем от других умеренности в поступках и в мыслях, а собственные вольности охотно прощаем себе.
Сделав порывистый шаг, остановившись также порывисто, сунув толстые ладони за пояс, стянутый простой кованой пряжкой, Кромвель огрызнулся сердито:
— Так не пойдёт! Так мы не сможем договориться!
Улыбнулся:
— Вот видишь.
Сдёрнув, стиснув берет, размахивая кулаком, откуда торчали чёрные ушки, Кромвель настаивал, веско расставляя слова, точно гвозди вбивал, в самом деле усердно исполняя приказ:
— Король повелел мне предостеречь вас от ошибки, напомнить о том...
Перебил, миролюбиво разъясняя:
— Его величество предостерегает меня без причины, потому что нет ничего, от чего бы меня надо было предостеречь, а если бы даже и было отчего, так ты уже опоздал.
Кромвель сорвался и крикнул:
— Его величество не доволен ответами, которые вы дали нам в прошлый раз. Ваши ответы слишком уклончивы. Из них ничего невозможно понять.
Заверил собеседника:
— Теперь не дам никакого ответа.
Подступая вплотную к постели, скребнув по плитам пола подковами башмаков, Кромвель всё озлобленней, всё громче кричал:
— Вы подаёте дурной пример подданным короля!
Возразил:
— По милости его величества я отныне не общаюсь ни с кем. Своим мнением ни с кем не делюсь, даже с тобой. Лишь говорю, что совесть не позволяет мне дать такую присягу, но ведь тебе-то я не в силах подать никакого примера. Неужели ты сомневаешься? Неужели не присягнул?
Кромвель крикнул опять, должно быть, рассчитывая на то, что за дверями услышат вопрос и ответ и дадут показание на суде:
— И вы не признаете титулы короля?
Понизил голос и невозмутимо ответил вопросом:
— А ты сам признаешь все его титулы?
Кромвель отмахнулся небрежно, точно просил не запутывать его всяким вздором:
— Да, я признаю все титулы нашего короля! Да, да! Вы слышите, все титулы нашего короля, без исключения! Что за дурацкий вопрос!
Ещё тише, ещё невозмутимей спросил:
— И даже тот титул, согласно которому он является королём Франции, как наши давние короли?
Кромвель сразу остыл, оглянулся на дверь и сдавленно произнёс:
— Но я же хочу вас спасти.
Возразил:
— Пусть меня лучше спасает Всевышний, ведь Всевышним моя участь давно решена.
Неприязненно поглядев на него, Томас Кромвель повернулся чётко через плечо, как делал, должно быть, когда был солдатом и не смел взглянуть на сержанта, и молча ушёл, на ходу нахлобучивая чёрный берет.
Мор догадался, что отныне его не оставят в покое. Медленно бродя по узилищу, со всех сторон обдумывал своё положение, вопросы, что ему зададут, и ответы, что должен дать. Случайно или по глупости попадаться не хотел, а если не допустит оплошности, они не справятся с ним.
В начале мая они пришли впятером.
Архиепископ угрюмо молчал, ещё ниже спуская углы крепко сжатого плоского рта. Канцлер Одли суетливо вертел головой и на происходящее глядел, удивлённо расширяя глаза. Граф Уилтшир, отец Анны Болейн, держался сурово, напыщенно, с непривычным достоинством человека, который возвысился не заслугой, а случаем. Герцог Сэффолк казался ко всему безразличным. Томас Кромвель убеждал его ещё настойчивей, ещё резче и злей.
Чего они требовали?
То, что повелел им король, чтобы признал государя главой церкви.
Расставив эту ловушку, сановники, должно быть, рассчитывали услышать возражения, но любые возражения были бы оскорблением его величества, за него мыслителя было бы можно и должно судить и приговорить к смерти за государственную измену.
Они позабыли, что он был хорошим юристом, которому было известно со школьной скамьи, что прямое возражение грозит гибелью.
Промолчал и молчанием лишал их законного основания свершить над ним суд и вынести приговор.
Так и ушли, однако возвратились спустя несколько дней и задали ему всё тот же вопрос.
На этот раз счёл нужным ответить:
— Акт парламента о верховенстве короля подобен мечу: если скажешь одно — погубишь тело, если скажешь другое — погубишь бессмертную душу. Как мне тут выбирать?
Приходили опять и опять, и вновь отвечал, притворяясь наивным:
— Я ничего дурного не совершил, ничего дурного не говорил, не замышляю никакого зла ни против монарха, ни против его семьи. Всем желаю добра, и королю, и королеве, и дочери короля, и парламенту, и всей Англии. Если этого недостаточно, чтобы сохранить человеку жизнь, тогда жить мне осталось недолго, но, так и быть, жалкое тело готов потерять, лишь бы сохранилась душа.
Генрих, должно быть, бесился. Молчание узника выводило его из себя, ведь государь, любивший философские споры и беседы о римских поэтах, не терпел никакого противоречия.
Генрих отправлял своих слуг снова и снова, и они уже не могли отступиться. У него конфисковали имущество, пожалованное ему самим королём, когда Мор занимал должность канцлера и монарх считал его своим другом, должно быть, надеясь, что ему станет жаль своего достояний, но он опять промолчал. Подарили принцессе Елизавете любимый дом его в Челси — узник молчал. Отрубили голову верному соратнику Фишеру — хранил гробовое молчание. Под его открытым окном проводили его приверженцев, приговорённых к смерти на виселице, — продолжал молчать. Лейтенанту Уолсингему приказали обращаться с заключённым куда более строго, чем прежде, — и на это смолчал. Отобрали слугу, оставив в одиночестве и физически, — но и это не заставило его говорить.
Изобретая всё новые и новые утеснения, лишь бы угодить его величеству, наконец догадавшись (или на это указал им король?), как тяжко было бы для мыслителя одиночество умственное, пришли взять книги, бумагу, перо и чернила.
Резкий ветер дул в тот день с моря, нагоняя стадами серые тучи, сочившиеся дождём, и мелкие капли беззвучно шлёпали по стеклу, душу тесня беспокойством, промозглой сыростью наполняя уже пустынную келью.
Скучно, неуютно стало в тюрьме. Пристроившись у окна, перелистывал, лишь бы забыться, Эразма, чья весёлая насмешка всегда ободряла. Завидовал, восхищался, перебирая лёгкие, звучные, плавные латинские фразы, так до конца и не поверив тому, что эта бесподобная книга написана беззаботным Эразмом всего за две недели или чуть больше, в дороге, в седле, единственно как развлечение от скуки в долгом пути.
Добрый Эразм посвятил эту книгу ему, и Мор с удовольствием перечитал посвящение, укрепляясь духом от щедрых похвал:
«Эразм Роттердамский милому Томасу Мору посылает привет» стояло, как полагалось по прекрасному обычаю римлян, в самом начале, а далее шло:
«В недавние дни, возвращаясь из Италии в Англию и не желая, чтобы время, проводимое в седле, расточалось в пустых разговорах, чуждых литературе и музам, я либо размышлял о совместных учёных занятиях, либо мысленно наслаждался, поминая о покинутых друзьях, столь же учёных, сколь любезных моему сердцу. Между тем и ты, милый Мор, являлся мне в числе первых: вдали от тебя я не менее наслаждался воспоминаниями, нежели, бывало, вблизи — общением с тобой, которое, клянусь, слаще всего, что мне случилось отведать в жизни. И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а поскольку обстоятельства не благоприятствовали предметам важным, то и задумал я сложить похвальное слово глупости. «Что за Паллада внушила тебе эту мысль?» — спросишь ты. Прежде всего навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову «мория», сколь сам ты далёк от её существа, ибо, по общему приговору, ты от неё всех дальше. Затем мне казалось, что эта игра моего ума тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря — учёные и не лишённые соли (ежели только не заблуждаюсь я в оценке собственного творения моего), и вообще не прочь был поглядеть на человеческую жизнь глазами Демокрита. Хотя по исключительной прозорливости ума ты чрезвычайно далёк от вкусов и воззрений грубой толпы, зато благодаря лёгкости и кротости нрава можешь и любишь, снисходя до общего уровня, играть роль самого обыкновенного человека. А значит, ты не только благосклонно примешь эту мою ораторскую безделку, эту памятку о твоём товарище, но и возьмёшь её под защиту; отныне, тебе посвящённая, она уже не моя, а твоя...»
Склоняясь над латинскими письменами, обхватив лёгкую голову сухощавой рукой, жадно, пристально размышлял, был ли в самом деле таким прозорливым и кротким или всего лишь показался таким своему, как праздник, весёлому гостю.