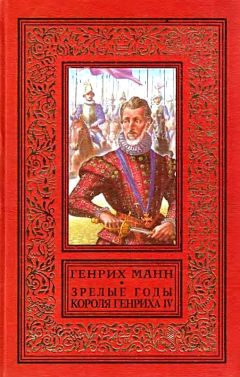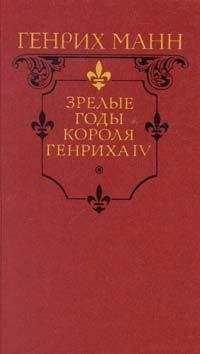Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
Из всех ударов судьбы, свалившихся на него, это был самый жестокий.
Долго сидел ошеломлённый, однако выдержал и это, уверенно написал:
«Мне не единожды в жизни доводилось получать тяжёлые вести, но ни одна из них так не затронула моего сердца, как твоё настойчивое стремление, моя любимая, столь слёзно и душераздирающе убедить меня совершить то, что, как я неоднократно и ясно тебе говорил, я не могу сделать из уважения к собственной совести...»
Остановился, потому что рука задрожала. Потом продолжал:
«И потому, дочь моя Маргарита, я не могу следовать вашему мнению и хочу просить вас оставить эту заботу и удовольствоваться моим прежним советом...»
Ей следовало укрепить свой дух смирением и покорностью Господу, как укреплял он себя, предаваясь молитве, однако никакая молитва не смягчала душевную боль, и отец написал:
«Самое ужасное для меня, более ужасное, чем угроза смерти, является то обстоятельство, что из-за меня пребывает в горе и подвергается опасности твой муж, мой добрый зять, ты, моя дочь, моя жена и все мои другие дети и безвинные друзья, но поскольку отвратить эту беду не в моей власти, я могу не более, как во всём полагаться на волю Всевышнего...»
Так узник остался один.
Поздней осенью повелением короля был созван парламент. Заседания нижней палаты затянулись на полтора месяца. Законодательные акты последовали один за другим, длинные, водянистые, как затяжные дожди.
Первым принят был акт о верховенстве. В согласии с ним, единственно ради возрастания добродетели и твёрдости в вере Христовой, король Генрих Восьмой Тюдор провозглашался верховным владыкой и вершителем всех дел, относившихся к вере и церкви в пределах его государства, а все платежи, десятины и доходы первого года за церковную должность, которые прежде отправлялись к Римскому Папе, отныне должны были течь в казну короля, к тому же приметно возросши в размерах.
Акт об измене объявлял государственной изменой любые слова, написанные или сказанные против самого короля, против второй королевы или против наследников, которые бы порочили достоинство короля или отвергали хотя бы один из его многочисленных титулов.
Последним был принят акт, обвинявший в государственной измене Томаса Мора и епископа Фишера за настойчивый, дерзкий и надменный отказ от присяги.
Его четыре зятя и шурин, депутаты нижней палаты, принесли присягу и проголосовали за обвинительный акт, предав и покинув его на произвол короля.
Согласно этому последнему акту философу угрожала смертная казнь, если не примет присяги, однако, на счастье ему, палата лордов не признала акт обоснованным, и акт не становился законом.
После этого его стали допрашивать. В конце апреля в первый раз пожаловал Кромвель.
Было раннее утро. Он ещё спал и видел во сне океан, пустой и безбрежный, только мерно катились большие волны, озлащённые солнцем, катились спокойно, уверенно и могуче, а Мор любовался седыми валами откуда-то сверху и зачем-то отчаянно пытался понять, откуда так жадно, так озабоченно смотрит на них, на чём так шатко стоит, что вот-вот упадёт и полетит навстречу бездонной пучине, и с замиранием сердца страшился как раз не того, что сорвётся, а только того, что уже не узнать ему никогда, что поддерживало его в колыхавшейся высоте.
Голос Кромвеля грубо позвал:
— Проснитесь!
Вздрогнув всем телом, вытягиваясь под одеялом, вытаращил заспанные глаза и увидел прямо перед собой пристальный ненавидящий взгляд.
В чёрном камзоле, в чёрном берете, Томас Кромвель сидел перед ним, подбоченясь, опершись толстыми ладонями о колени широко расставленных ног, обутых в чёрные башмаки с простыми железными пряжками.
Мутный свет едва пробивался в глубоком окне. Было сумрачно, тихо, снаружи не долетало ни звука, словно и пленник, и новый секретарь короля, и эта тихая келья парили над бездной.
Он всё ещё падал, как снилось во сне, и приходил в себя нехотя, медленно и с трудом, то открывая, то вновь закрывая глаза.
Не дожидаясь, пока Мор очнётся совсем, не сводя затаившихся пристальных глаз, Томас Кромвель скороговоркой сказал:
— Я пришёл, чтобы спасти вас.
Приподнялся.
От Томаса Кромвеля потянуло свежестью утра.
Привыкший за много дней к тяжёлому, затхлому, ненавистному воздуху заточения, с жадностью втягивал в себя эту свежесть, с грустной радостью жмурил глаза, всё ещё ослеплённые блеском сердитых валов, и отмахнулся ворчливо:
— Лучше бы дали поспать.
— Почему вы не верите мне?
Взглянув одним глазом на плутоватое, ханжески вытянутое лицо бывшего ростовщика и сборщика податей на службе у кардинала Уолси, снова жмурясь, но теперь не от солнца, потягиваясь, пытаясь понять по мутному свету, неласково, стыло млевшему в глубоком окне, каким было нынче утро на воле, каким будет нынешний день, признался с открытой издёвкой:
— Я бы поверил тебе, кабы сам ты поверил себе.
Голос Кромвеля зарокотал приглушённо, но грозно:
— Признайте новые акты, и вы обретёте свободу, ещё на землю не опустится вечер.
Удивляясь, как все эти жадные выскочки падки на разного рода пышную чушь, с сожалением представляя себе холодное утро, густой весенний туман, тёплый день, согретый улыбчивым солнцем, свежую зелень полей, обещавшую урожай, тихий вечер где-нибудь на вершине холма, откуда хорошо наблюдать незримо и плавно заходящее солнце и стадо коров, воз вращавшихся в город, лениво признался:
— Мой ум не занимают больше такого рода вопросы. Всё это, ваша милость, мирские дела.
Кромвель холодно рассмеялся:
— Так я и поверил, чтобы ваш ум...
Не открывая глаз, надеясь хоть мысленно воротиться к солнцу и рощам, перебил:
— У меня нет никакого желания входить в обсуждение ни новых титулов английского короля, ни старых титулов Римского Папы. Отныне я беседую только с Всевышним.
Кромвель насмешливо пояснил:
— Это означает только одно: сам с собой вы их дан но обсудили.
Возразил, снова ложась на жёсткий тюфяк и натягивая на себя одеяло толстого неокрашенного сукна:
— Дай мне поспать.
На мгновение растерявшись, должно быть, посидел неподвижно в полном молчании, Кромвель вдруг принагнулся к нему и пониженным доверительным голосом произнёс:
— Постойте, поспите потом, я обязан сказать, что вы совершаете большую ошибку.
Нехотя возразил, со старанием подтыкая под себя по бокам одеяло:
— Не надо, я сплю.
Тогда Кромвель двинулся всем крепким телом и тронул его за плечо тяжёлой рукой:
— Послушайте же меня!
С недоумением поглядел на него:
— Помилуй, ваша милость, ты, верно, позабыл слова Эпиктета.
Кромвель отпрянул, потерявшись от неожиданности, растерянно пробормотал:
— Какие слова?
Напомнил с иронической лаской тому, кто не утруждал себя чтением книг:
— Между тем Эпиктет говорит: «Не думай, что всем приятно слушать то, что тебе приятно сказать».
Под Кромвелем заскрипел табурет:
— Я обязан сказать.
Спокойно поправил его:
— Впрочем, прости, я в самом деле забыл, что ты никогда не читал Эпиктета. Это важное обстоятельство отчасти извиняет тебя.
Кромвель нетерпеливо вздохнул:
— К чёрту вашего Эпиктета и всех прочих Эпиктетов на свете. Король мне приказал, и вам придётся выслушать всё, что я вам скажу.
Сон пропал, и Мор сел на измятой постели:
— Стало быть, спасти меня желал бы король, а вовсе не ты?
Кромвель понизил голос, с видом заговорщика оглядываясь на толстую дверь:
— Мне приказано вам передать, что в том случае, если вы наконец признаете новые акты, ваше заблуждение будет забыто и всё между вами станет как прежде.
Мыслитель усмехнулся:
— Я уже всё забыл.
Вопреки обыкновению, всегда порывистый, нетерпеливый, Кромвель мягко настаивал:
— Повторяю вам, мастер, дело-то скверное, и очень вы заблуждаетесь, говоря со мной таким тоном.
Давно представляя себе, что затеял слишком серьёзное дело, прислонился к стене, сухой, но холодной, и как ни в чём не бывало, стал балагурить со своим соблазнителем, точно поучая его:
— Видишь ли, ваша милость, уличённый в ошибке, я не защищаю её, охотно её признаю: ведь тем, кого люблю, без колебаний указываю на то, что для них важно. Поэтому, честное слово, меня только радует, когда мне указывают на мою оплошность друзья, но разве ты так уж сильно любишь меня, чтобы стать моим другом?
Кромвель опустил голову, но согласился:
— Что верно, то верно, мастер. Правду сказать, я вас совсем не люблю.
Улыбнулся открытой, доброй улыбкой, словно прощая его:
— Вот видишь, а на чужие ошибки следует указывать только с любовью. Если на те же ошибки указывают нам без любви, это нередко производит об ратное действие. Ведь Корнелий Тацит однажды писал: «Едкие остроты, к которым примешано много истинного, оставляют по себе злобное воспоминание». И Саллюстий также был прав, говоря: «Истинное безумие, выбиваясь из сил, не стяжать себе ничего, кроме ненависти». Зачем ты не следуешь их мудрым советам?