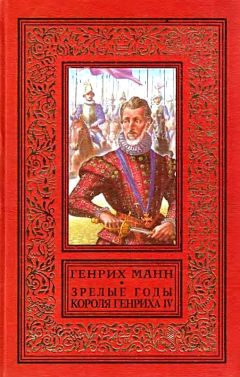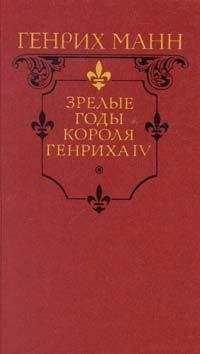Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
— В таком трудном деле легко ошибиться, опираясь на одни лишь доводы разума, даже очень сильного разума, каков ваш, мастер Мор.
На прямой запрос обязан был отвечать прямо и чётко или смолчать, но видел, что смертью на этот раз грозило даже молчание. Другое всё-таки дело — способности разума. О способностях разума мог бы спорить сколько угодно. Чем дольше, тем лучше. Ведь бы мог говорить, а не молчать. К нему невозможно бы было придраться, что он молчанием осуждает решение короля.
Философ был благодарен архиепископу от души за эти слова.
Помолчав, спокойно поразмыслив о том, случайно ли архиепископ отвёл в сторону внимание слушателей, хотел ли ему этим тайно помочь, ответил пространно:
— Напротив, я думаю, труднее допустить ошибку там, где легко ошибиться. Когда мы, не ведая страха, поспешно идём по ровному месту, где никто не страшится упасть, мы падаем часто. Когда же мы спускаемся с крутого обрыва, то делаем это так осторожно, что обдумываем каждый свой шаг.
Не меняясь в лице, почти не разжимая плоского рта, архиепископ посоветовал жёстко:
— Вот и обдумайте, мастер, этот свой шаг.
В знак согласия кивнул головой:
— Я обдумал, ваше преосвященство.
Должно быть, не выдержав словопрения, которое было ему непонятно, нарушая чинность всей церемонии, канцлер Одли возмущённо воскликнул:
— Но что же обдумывать, мастер, если парламент согласился признать оба предложенных вам документа!
Ответил, слегка прищурив глаза:
— А обдумываю я потому, что парламент точно таким же образом имел возможность и право допустить ещё что-нибудь, например, клятвопреступление, прелюбодеяние или разврат. Постановили — и греши без разбора, взятки, мол, гладки.
Скрестив на жидкой груди короткие руки, высоко вздёрнув широчайшие мужицкие брови, беспокойно вертя головой, вопросительно взглядывая то на архиепископа, то на викария, то на секретаря короля, канцлер изумлённо отверг:
— Чтобы парламент? Да этого невозможно представить!
Он посоветовал мирно:
— А вы представьте хоть на минуту. В противном случае все постановления без исключения имели бы силу закона, начиная с постановлений сената Римской республики.
Суетливо моргая, медленно краснея мелким лицом, неумело одёргивая новый камзол, подобающий его непривычному положению, канцлер поспешно отрёкся:
— Даже на минуту! Даже на полминуты! Ни под каким видом! Это лучшие граждане нашей страны!
Выпрямился, вдохновлённый собственными словами, и, силясь выглядеть непреклонным и строгим, возвысил бабий голос:
— Я надеюсь! Я очень надеюсь! Уж с этим-то вы не станете спорить?
Мор улыбнулся, зная по опыту, полученному им на всех должностях, которые пришлось занимать, что такое коррупция среди представителей нации:
— Если хотите, против этого я спорить не стану. Однако и вы, надеюсь, не станете спорить, что не так-то легко где угодно найти несколько сот граждан, которые были бы хорошо образованы и воспитаны в здравых и разумных понятиях, к тому же имели бы в достаточном количестве совесть и честь, что тоже в их деятельности играет немалую роль.
Поджав губы, тяжело усмехаясь, Томас Кромвель, не успевший нигде поучиться, тем более воспитаться в здравых и разумных понятиях, презрительно вставил:
— Даже в вашем возлюбленном римском сенате?
Бедный Кромвель, бедный солдат, сукнодел, ростовщик, поверенный в делах кардинала Уолси, что ты слышал о римском сенате, и философ насмешливо подтвердил:
— Даже и там. История эта известна. — И продолжал, не спуская с Кромвеля искрящихся юмором глаз: — Ибо существует ли такое сословие, которое может надёжно оградить себя от того, чтобы угодничеством, приятельством, подкупом или обманом не могли в него просочиться недостойные люди, без чести и совести, например? Но как только один такой человек, без чести и совести, достигнет высокого положения, он всеми способами помогает подняться туда множеству подобных ему бесчестных людей. И по этой причине выходит, что во всяком сословии достаточно много недостойных людей, мнению которых нельзя доверять. И в римском сенате бывали такие великие люди, с возвышенным благородством их не могли сравниться даже цари, но бывали там также бесславные, ничтожные люди, которые жалким образом гибли, раздавленные, когда, во время недовольства и праздников, волновался народ. Несмотря на то, что низость одних нисколько не мешает, но даже помогает блеску других, звание сенатора не избавляло ничтожных и подлых от людского презрения.
Злобно сузив глаза, Кромвель открыл было рот, видимо, собираясь дать ему отповедь, однако архиепископ властно вмешался в разговор:
— В таком случае каждый из нас должен иметь что-то вроде магнитной иглы, она указала бы нам верный путь всякий раз, в каком направлении нам идти и как мы должны поступить.
Это охотно Мор подтвердил, радуясь, что не молчит, но и не принимает предложенных актов:
— Разумеется, ваше преосвященство, у каждого такая игла должна быть.
Тогда Кромвель с откровенной угрозой спросил:
— Разве такой магнитной иглой не являются постановления короля и парламента?
Дурак, дурак, а хочет поймать, и Мор руками развёл, непринуждённо откидываясь назад:
— Нашей магнитной иглой является совесть.
Тут пошевелился викарий, отложил свиток и вставил укоризненно и удивлённо:
— Помилуйте, мастер Мор, вы тут один с вашей совестью! На вашей стороне больше нет никого!
Невозмутимо ответил:
— Даже если бы на моей стороне не было никого, а на другой стороне был весь парламент, я и тогда не побоялся бы опереться на одно моё собственное суждение против такого множества голосов. Но ведь я не один. На моей стороне голоса всего христианства.
Канцлер вскрикнул, вытянув руку, точно предостерегая или пытаясь удержать:
— Будьте расчётливы, будьте благоразумны в ваших речах!
Возразил, почти равнодушно:
— Поверьте, лучше быть неблагоразумным, но честным.
Вновь его оборвав, архиепископ, на правах председателя, угрюмо спросил, не повернув головы:
— Не будет ли угодно его величеству, чтобы Томас Мор, здесь перед нами представший, принёс только ту клятву, произнести которую он согласился?
Томас Кромвель вскинулся весь и бросил победно и коротко:
— Нет!
Углубившись в себя, тяжело помолчав, архиепископ своей властью решил:
— Мы убедились, что мастер Томас Мор ещё не готов к произнесению клятвы по поводу обоих решений короля и парламента. Ему необходимо сосредоточиться и подумать, ведь это слишком важный вопрос. Так пусть поместят его в аббатство Вестминстер, да снизойдёт на него просветление в тишине и в молитве!
Глава десятая
МОЛЧАНИЕ
Тем и окончилось то заседание.
Ему разрешили проститься с зятем, который беспокойно шагал взад и вперёд по двору, изнывая под солнцем в тревоге неведения.
Тычась влажным носом в плечо, зять беспомощно бормотал между всхлипами:
— Как же, мастер... сказали вы... Боже мой... «сражение выиграно»?..
Ласково улыбаясь ему, похлопывая по дрожавшему от рыданий плечу, подтвердил:
— Сражение выиграно. Ты это слово запомни. Ещё пригодится тебе и другим.
Зять не слышал, спрашивая его о другом:
— Они ведут вас в тюрьму?
Успокоил его:
— Пока ещё нет.
Викарий напомнил, приблизившись сбоку:
— Пора.
Зять цеплялся за его руку дрожащей слабой рукой:
— Что жёнам делать без вас?
Сердце сжалось от боли, на глаза наворачивались горючие слёзы от сострадания, от жалости к близким, от вины перед ними, и мыслитель ответил одним только словом, едва ли посильным для столь слабых душой:
— Мужаться.
Его поместили в сухой чистой келье. Иноки были предупредительны и почтительны. Его не тревожил никто.
Он подолгу молился и хладнокровно размышлял в тишине, прохладной и бодрой.
Понимал, что король опасался, быть может, даже боялся и его самого, и его влияния на мнение многих людей, не только в парламенте, но и в Сити, помня о том, как его посылали уладить ту глупую выходку с Фландрией. Мор находил, что архиепископ тайно его защищал, властный, расчётливый Краэнмер, догадывался, что отныне уже не один противился губительной политике короля.
Молитва и размышления укрепили его.
На пятый день вызвали вновь, вновь спросили, готов ли присягнуть, но он с прежним упорством продолжал уклоняться, не находя возможным признать законным развод и второй брак короля без благословения Римского Папы.
Тогда его под конвоем отправили в Тауэр.
Помещение, отведённое пленнику, было небольшим, но тоже чистым, сухим. Каменный пол прикрывали сплетённые из пшеничной соломы подстилки. Жена вносила пятнадцать шиллингов в неделю за стол и квартиру, которую ему предоставил король. Слуга Джон оставался при нём. Узнику разрешили пользоваться книгами, бумагой, пером. Его больше не беспокоил никто.