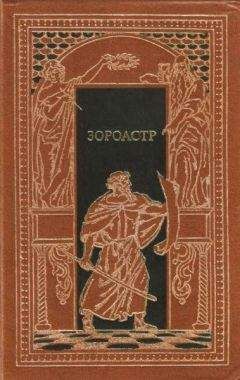Владислав Бахревский - Сполошный колокол
Не усидел бы, нет! Когда бы не ночь темная, когда бы не Ульян Фадеев с Мошницыным-старостой.
Не сулил победы псковичам ясный день. Это и Гаврила понял: поглядел на него князь Львов высокомерно, ничего ему не сказал и пошел со стены прочь. Гаврила его не удерживал.
Тоскливо было старосте. Чего греха таить, обещал он своей супруге вместо свадебного подарка согнать Хованского со Снетной горы, а теперь открылись глаза: с Прошкой Козой не одолеть князя. Одной смелостью войны не выиграешь, а Бухвостовы — вон они как!
Основные войска между тем сближались, страшно стало Гавриле, а тут еще сунулся к нему Донат:
— Гаврила-староста, прикажи мне острожек спалить.
Ничего Гаврила не ответил Донату, кажись, и не слыхал его. Обиделся Донат, бросил свою полсотню, с которой охранял старосту, и с копьем в одной руке, с факелом — в другой ускакал в поле.
А в поле войска наконец сошлись. И встали. Палили издали друг в друга из пищалей, схватывались смельчаки на ничейной земле.
Донат с факелом в левой руке, с копьем — в правой помчался прямиком к острожку. Летел на ряды врагов, не сдерживая коня. Длинное копье, устремленное вперед, превратилось вдруг в многоголового змея. Словно ядовитые жала кинулись на первый ряд воинов — четверо выпали из седел. Подойти к Донату невозможно. Крутит он огненным факелом, колет копьем, конем топчет. Не пробился все ж. Сломалось копье. Повернул Донат коня. Запустил в противников факелом. Те шарахнулись, а он — к своим.
Подскакал Донат под стены, сменил коня, зажег новый факел, прихватил мешочек с порохом, вместо копья багор взял. Помчался таранить врагов. А те как увидели, что мчится на них Воин-Копье, — в стороны, кому охота битому быть. Проскакал Донат к острожку, под самый тын. Встал ногами коню на круп, кинул на крышу крепостенки-времянки мешочек с порохом и туда же факел свой. К Донату со всех сторон скачут, те, кто в острожке сидели, в него целятся. Зюсс к тыну подбежал, шпагой машет, кричит что-то своим, а Донат багор запустил за тын, подцепил Зюсса за латы и вытащил, как рыбину.
Тут и подавно вражеские воины смутились. Мчит на них конь, потерявший лошадиный свой разум от лошадиного своего ужаса. Над самой мордой коня дрыгают сапоги немецкие. Держит Донат багор с уловом двумя руками, как знамя, и, чтоб из седла не вылететь, жмет лошадиные бока острыми шпорами.
Палить по псковичу — немца убьешь. Так и проскакал Донат. Влетел в ворота и опустил немца перед Гаврилой. Тот со стены сошел бледен и яростен. Обнял Доната:
— Если бы хоть десяток псковичей дрались, как ты!
Только тут Донат посмотрел, что делалось в поле. Гурьбой бежали под стены псковские отряды. Грохотали пушки, не пуская к городу Хованского. Первая битва была проиграна. Правда, острожек, зажженный Донатом, пылал, но долго ли его заново срубить?
К Гавриле решительно подошел Зюсс:
— Господин комендант, твой рыцарь взял меня в плен варварским обычаем, но я преклоняюсь перед его храбростью. Меня забыли обезоружить — вот моя шпага. — И Зюсс преподнес двумя руками шпагу свою Гавриле.
Тот повеселел: хоть бой не выиграли, а все же острожек подпалили, пленные есть, а среди них не кто-нибудь — полковник, немец. Гаврила принял шпагу, и тут к нему протиснулся Донат.
— Гаврила-староста, мой пленник, полковник Зюсс, — враг мой. Он убил моего отца, и я должен отомстить ему.
— Мстить пленному? Что же ты с ним собираешься сделать?
— Я хочу вызвать Зюсса на поединок и в честном бою отомстить за отца.
— Будь по-твоему, но поединок придется отсрочить. Пскову нужна твоя помощь, Донат.
Едва он открыл дверь, Пани повисла у него на шее:
— Ты жив! Езус Мария! Ты жив!
— Почему ты плачешь?
— Мне сказали, что вы разбиты.
— Мы — да. Я — нет! Мне Гаврила Демидов сказал: «О, если бы хоть десяток псковичей дрались, как ты». А мой пленник — немецкий полковник Зюсс. Да, Пани! Я взял в плен самого полковника. Того самого Зюсса, который убил моего отца. Теперь он в моих руках. Но ты слушай, что он сказал, этот немецкий полковник. Полковник сказал, что он преклоняется перед моей храбростью.
«Боже мой! — Пани глядела на Доната с восхищением. — Боже мой, он совсем мальчишка! Тут бы в тени отсидеться, а он мчится на коне в герои, в герои мятежа».
— И ты знаешь, — Донат был еще там, на поле брани, — Гаврила мне сказал, что Пскову нужна моя помощь.
— Какая?
— Не знаю. Наверное, что-то большое. Гаврила не позволил мне вызвать Зюсса на поединок.
— Я рада за тебя, Донат. — Пани опустила глаза. — Прими от меня этот золотой крестик. Пусть Бог хранит тебя, когда ты охвачен безумной смелостью.
— О Пани! Ты меня понимаешь? Я счастлив. — Он поцеловал ее. — А теперь… Что нужно воину, Пани?
— Стол, заваленный мясом, и вино.
— Верно! И чтобы украшением стола была верная и любящая дама сердца. Вперед!
— Вперед!
Донат посадил Пани на плечо и понес ее наверх, в столовую, но по дороге заглянул на кухню, чтобы поторопить с обедом немую служанку. Увидел клетку с голубями.
— Ты решила забавляться птицами?
— Но тебя подолгу не бывает дома, ты теперь на войне, а Господь любит тех, кто заботится о птицах.
У Доната от этих ласковых слов в горле защемило, чуть не расплакался: он и в детстве не бывал таким счастливым.
Дела Хованского
В тот победный день, отбившись от псковичей, князь Иван Никитич Хованский написал государю челобитную:
«Государю царю и великому князю всея Руси Алексею Михайловичу холоп твой Ивашко Хованский челом бьет!
Стою, государь, на Снетной горе насилу. Ратные люди тебе, государю, бьют челом, а мне, холопу твоему, докучают, что запасов нет, и купить, и добыть негде, верст по двадцати и по тридцати. А вылазки, государь, где мы стоим, на твои государевы люди частые, и уездные люди со псковичи заодно воруют, по дорогам стоят, и имают, и во Псков отводят, а хлеб свой всякий по лесам похоронили, кормов добыть не мочно. Учинился голод великий. Нам никак больше пяти дней на Сметной горе стоять нельзя, потому что конских кормов нет».
Боялся Хованский псковичей.
И Москва про то знала.
Тайные дела
Время от времени Пани накидывала на плечи красный платок, надевала зеленые сапожки, рисовала родинку на правой щеке и с калачами отправлялась к церкви Покрова на Торгу.
В слободке за Пани шла слава хорошей калачницы. Торговцы ее никогда не теснили. Пани продавала в день всегда одну-две корзины калачей, и так из года в год, не расширяя дела, хотя покупатель искал ее. Объединиться с кем-нибудь она не пожелала. Да и на торг являлась изредка, посылала с калачами свою немую служанку.
Пани поздоровалась с торговцами, заняла место против паперти, огляделась.
Было ей видно, что в мясных рядах непривычная, чрезмерная теснота. Псковичи начали резать коров. Кормить скотину стало трудно. В поле рыскали голодные отряды Хованского, за стены со стадом не сунешься, а в городе травы — гусям пощипать. Мукою уже не торговали. За калач ломили страшную цену: двадцать копеек. Охотников на такие калачи было мало, а все же были.
Пани на всякий случай, чтоб разом не продать товар, набросила целый пятачок. Теперь за ее калачик нужно было вынуть и отдать полуполтину! И все же долго она не простояла. Подошел к ней огромный рыжий монах, заглянул в корзину и спросил:
— Хороши ли калачи?
— Хороши.
— Сколько в корзине-то?
— Была поутру дюжина. Сколько осталось — все твое.
Монах посчитал калачи:
— Так у тебя дюжина и есть.
— Вот и бери всю, чтоб мне не стоять.
— Сколько же калач стоит?
— Полуполтина.
— Побойся Бога! Три рубля за товар?! За дюжину калачей?!
— Бери у других.
Отошел, спросил цену у соседа. У того дюжина стоила два рубля сорок копеек. Вернулся к Пани.
— За два сорок отдашь? Ну, за два с полтинником. Только с корзиной.
Да, это был связной из Духова монастыря. Пани, чтоб не вызвать подозрения у соседей-торговцев, подумала и засмеялась:
— Ладно, монашек! Бери с корзиной. Постояла бы за цену, да недосуг мне нынче, домой спешу.
Получила деньги, отдала корзину и, на зависть торгашам, отправилась с базара веселой своей походкой. Монах, не выпуская ее из виду, шел следом, в отдалении. Выглядел ее дом, исчез.
Дома Пани ждал счастливый Донат.
— Иду в поход! — крикнул он ей, едва она переступила порог.
— В какой поход? — испугалась Пани.
— В самый настоящий! К городу Острову! С тремя сотнями посаженных на коней стрельцов. И знаешь, кто воеводой? Я! Пани, под моей рукой три сотни!
Донат был в счастливой лихорадке. Знал бы. Она высвободилась из объятий Доната, оглядела с ног до головы.