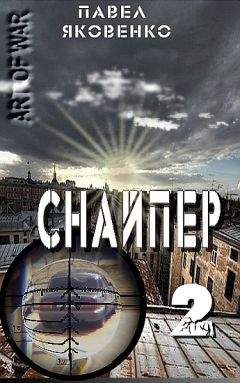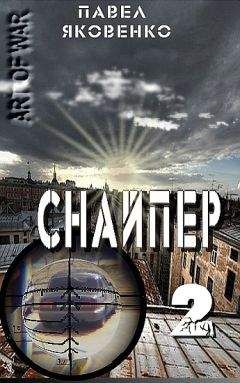Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
— Во-вторых, как-то вдвоем с бабушкой мы в лютый мороз в Александра-Невскую лавру ходили… Об этом я напишу, обязательно напишу! А вы, значит, в церковь не ходите…
— Нет, не хожу. Помните, на похоронах матери Тимофея, были монахи? Вы их знали?
— Нет, — сказал Алексей, — я не был на похоронах его матери.
— Ах да, правда, извините.
— Ничего. А скажите, вы в церковь по убеждению не ходите или просто так получилось?
— Не хожу и все. Ноги не идут.
— Вот. Большевикам помогаете.
— Что? Если в церковь не хожу, так сразу большевикам помогаю?
— Напрасно вы усмехаетесь. Очень может быть, что не сами, так других подталкиваете.
— Каким образом?
— Другие, кто помоложе, вот как Тимофей, посмотрят, тоже не будут, потому как для него вы образец, герой, которым он восхищается, возьмет да в церковь не станет ходить, вам подражать будет, философию читать, ан прочтет Маркса, увлечется, да и на сторону большевиков переметнется, вот вы душу-то и сгубили да большевикам помогли. Да и не большевикам, так врагу.
— Какому врагу?
— Сами знаете, враг один, — ровно сказал Алексей, хитро улыбаясь. — К каждому свой приставлен. Сидите, пьете, картинки рисуете да врагу службу служите.
— О чем вы говорите? Какую службу?
— Знаете, знаете, — кивал Каблуков. — Каждый знает, только сам от себя врага прячет, думает, он его лучший советчик. У каждого первый учитель — враг. Все в нашем мире от него. Не наше это. К нам пришло. Понять это наша задача.
— Не понимаю я ваших богословских задачек.
— Значит, не время. Просто поймите, человек — светильник Божий. Светить, чтобы спастись, а для этого врага со всеми его уловками отринуть надо, все, на чем мир стоит и чем нас в сетях держит. Я вот сейчас в монастыре не живу и в церковь не хожу. Хочу узнать, можно ли оставить молитву, когда добился безмолвия. Можно ли не бояться жить без молитвы…? Об этом хочу спросить. Хочу отважиться. Это не дерзость, а дерзание. Потому как с молитвой ты защищен, как со щитом, а можно ли попробовать проверить себя и чистоту души и жить без молитвы…? Может, вам и не нужны ни церковь, ни Библия, не знаю. Может, вы с Богом. Откуда мне знать? Не берусь вас судить. Только от одного предостерег бы вас, по-дружески, на каждом шагу говорить о том, что не веруете, лучше не надо. Ведь вы веруете, во что-то свое веруете. Только некоторые не поймут. Я пойму, я понимаю, это гордыня, упрямство у вас такое и еще что-то, но вы веруете, по-своему, другим этого не понять, потому о таком лучше молчать-помалкивать, а вы бравируете… в соблазн других вводите… Мне вот тоже один иеросхимонах печерский советовал стяжать мир в душе, безмолвие внутреннее, и тогда тысячи, говорит, вокруг тебя спасутся. Сей, говорит, доброе слово куда попало, и в каменья, и в добрую землю, достигай тишины духа! Молитвой Иисусовой подвяжись! Я два года послушником был, а он мне сказал, что мое место в миру, как Алеше Карамазову старец сказал… «Предстоят тебе трудности, потому как дело непростое. Едешь ты к католикам, — сказал он, — зачинаешь дело многим непонятное, может показаться другим, что в этом выгоду личную ищешь, пристроиться желаешь. Только ошибаются все они. Я тебя хорошо узнал. Ты простой, бесхитростный, а потому легко тебя обмануть, могут и обидеть словом дурным, клеветой запачкать, а начнешь обижаться да себя жалеть, так и пропадешь. В жалости слабость и болезнь. Помни, что никуда ты не едешь, ни во Францию, ни в Германию, ибо ничего нового для тебя там нет, а всюду Бог, Он тебя в себе катает! Но прежде чем ты поймешь истину, пострадать придется. Молитвой Иисусовой спасешься! Пути сами откроются. Такое откроется, о чем не помышляешь!» Так сказал. Главное, светильник свой наготове держать, чтоб масло в нем не пересыхало. Ну, ладно, надо мне ехать! — Алексей встал и начал одеваться. — С одной стороны, рад, что этот разговор промеж нас состоялся, с другой — боюсь, будете ли меня теперь вашим другом считать…? Не хотелось бы терять вас из виду, вы мне очень дороги сразу стали, и сошлись зараз мы как-то, сами видите — накоротке уже! Пишете вы тонко… Хотелось бы письмо хотя бы раз в год получить. Напишете?
— Напишу.
— Ну, вот и ладно! — сказал Алексей и, застегнув последнюю пуговицу, посерьезнев сразу, обнял Бориса, перекрестился и сказал: — Теперь на Валаам!
2Поначалу Тимофей писал кунстнику часто; все письма были восторг; Тарту — сказочный городок, Вера Аркадьевна — ангел, Ольга — ангел! Стихи, стихи. В конце апреля случился потоп: было весело, люди на лодках по улицам плавали, по досочкам ходили! Журчание реки, стихи. Факельный вечер студентов; ночные прогулки и пение; студенты, гофманские персонажи; катание на пони; колокольный звон; у соседа ручной ворон, Тимофей его учит слову «nevermore»; ездили в Пюх-тицу; День Русской Культуры; стихи, стихи; ездили в Тойла, снова стихи. Слава богу, он писал реже и реже, и письма его становились короче; летом он перестал писать совсем. Кунстник вздохнул с облегчением.
25.07.26, РевельЯ полагал, что заикаюсь и спотыкаюсь на каждом шагу оттого, что все эти годы меня держало костлявой рукой прошлое, но все гораздо сложнее. Здесь чаще идут дожди, и эти дожди несравнимо более меланхолические, нежели наши. Там они шли для всех, а тут как будто только для меня. Играют опьяненные опиумом пианисты, каждый свою грусть мне вбивает клавишами в душу, только мне! Но, может, потому там они были «для всех», что остро проникаться ощущением дождя я научился в гимназии? Прошлое, конечно, тут, а не там, только теперь не тяготит, держит оно меня ради уготовленного будущего, возможность которого созревает по мере преодолевания силы тяготения. Превозмогая в себе прошлое, оставляешь его за звонко захлопнутой дверью, — «освобождаясь умом», становишься другим человеком.
* * *возвращаюсь к этой записи через месяц: Я долго не мог понять, почему я не чувствую — все-таки надо сказать: не проникаюсь до конца чужбиной, а как воздушный шар, заякоренный временным видом на жительство (в ожидании гражданства — сколько лет еще ждать? et alors?[48] что изменится?), болтаюсь тут, как Петрушка. Так вот, однажды, после нескольких бессонных ночей (сильно болела голова), я пересматривал этими ночами работы отца, перечитывал «Двойник», заглянул в «Портрет», всплывали воспоминания, — отделил всё дорогое, отрешенно увидел себя как незнакомца и понял: Петербург был и остается городом, который фотографировал отец, который описали Достоевский, Гоголь, Пушкин, Блок, Белый, этот город населен персонажами, которые срослись с моей душой (они и есть я, или — там мое море, из которого происхожу, как рептилия), Петербург описан красками, слоями слов, а Ревель нет (призрак Петра, Екатериненталь, Морская крепость, Бестужев-Марлинский — вчерашние знакомства, а не друзья с детства), Ревель для меня пока не описан, и потому это город-призрак. Я тут как проездом.
1.9.26, Ревельнужна другая память; нужно иначе укладывать воспоминания — нужно собирать впечатления художественно, фиксировать не то, что лежит на поверхности: то, что можно увидеть, потрогать, понюхать, услышать и пр., - не только сгустки мысли, а так, чтобы оно было как картина, в которой целиком жизнь, все ветви и все тени, все шепотки и всё неповторимое, потому что chaque instant la vie est un Dada-collage[49], который незаметно распадается до состояния tabula rasa, а затем невидимой волей собирается вновь: машины, дома, деревья, дождь, дамочка с тортом, грязноносый мопс на руках сонного господина в котелке, кельнер, столики, вынесенная на улицу мебель, гофрированные крыши, подмоченные ярким солнцем деревья, труба с трубочистом, голуби, лужа, облака et cetera, et cetera — все это содержит в себе загадку для каждого участника и меня, и мсье Л., и herr Т., который сделал этот снимок. Но почему хранителем этой коллекции стал я? В этом, несомненно, что-то есть.
Алексей пишет, чтоб я подыскал для него что-нибудь. Митрополит отказал, Православный Богословский институт в Париже отклонил мое ходатайство. Кто-то что-то кому-то написал, несомненно. Идея семинарии тоже под вопросом. Впрочем, как и мои унионистские идеи. Наше дело под ударом. Все непонятно, но ясно, что все у него срывается. На последние письмо мне послал. Работенку, угол у немки, говорили, недорого. Прикрепил коротенькую статейку, накропал на досуге, больше похоже на наблюдения жизни в Париже и Берлине, просил отнести куда-нибудь, авось что дадут… Смешные надежды! Кто только не писал такого о Берлине и Париже?! Как нелепо! Быстро же его путешествие в Ватикан завершилось! И чем? Угол у фрау Метцер ему за счастье видится!
Октябрьсвет стал совсем… У Терниковского в кабинете стоял широченный шкап из черного дерева, и от него исходила гулкая тишина. Мы сидели с ним в тесноте, как в купе, и молчали долго, и мне казалось, что кто-нибудь сейчас еще войдет (может, даже из этого шкапа!), но было тихо-тихо, только часы скребли, настругивая время, но и этот скребет уползал в шкап, точно он все звуки поглощал. Так вот, в эти ветреные дни ничего ни в себе, ни вокруг не обнаруживаю, будто где-то над миром распахнули громадный шкап, как у Т., который пожирает все живое, высасывает из предметов и людей сущностное.