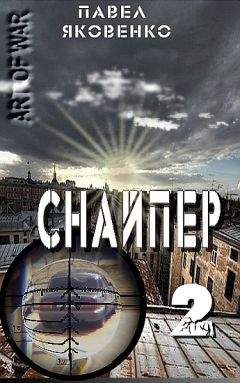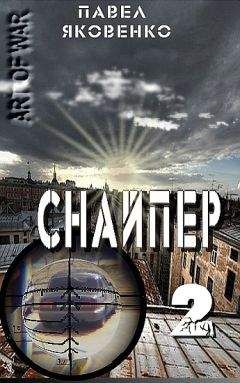Андрей Иванов - Харбинские мотыльки
— Кстати, если решите остаться, не пропадем — в Берлине у меня порядочно знакомств. На Рождество имею уже три приглашения! Останетесь на Рождество? Вместе пойдем!
— Может быть, останусь, — отвечал Каблуков. — А может, поеду… Думаю.
— Ну, думайте, думайте… Откуда вы деньги возьмете, простите за нескромный вопрос?
— Не забывайте, я все-таки по церковной части, — сказал Алексей. — Виза у меня уже есть.
— Ну, да, конечно.
Алексей предложил Борису что-нибудь написать для их кружка «Лотос», но у Вильде было так много планов, он так много писал для всех одновременно, что ему не хватало денег на то, чтобы рассылать написанное, не то что новое сочинять! Гонорары были смешные, — «Лотос» не мог предложить гонорара. Алексей в конце концов подобрал у него в комнате какие-то испещренные мятые листки, спросил, можно ли располагать вот этим, как чем-то вроде наброска на что-то, можно ли пропечатать в «Лотосе»?
— Да берите, — махнул рукой писатель, начищая ботинок, — да, и вон там, посмотрите, завалилось за стол порядочно, это тоже можете брать и, если хотите, используйте как заблагорассудится…
Алексей набрал побольше бумажек, тщательно изучил материал, переписал, дополнил, и тоже приложил к своим письмам. Каждый такой листик был помечен наверху: Борис Вильде «Берлинские записки». С наступлением тепла Алексей уехал в Париж…
Долго (листков пять) Алексей описывал путешествие из Германии во Францию; несколько ядовитых строк уделил парижским монархистам и поэтам, которые, судя по всему, его не приняли (может, даже поиздевались, с удовольствием поразглядывали и выдворили), их он назвал «декадентами», «морфинистами», «вульгарными ни-чегонеделателями» и быстро перешел к описанию города, — скучно, пресно: кафе, мосты, Сена, башня, Клиши, парижане — все то, что многими давно было описано, ничего нового. Так и не устроился в Париже; знакомые Бориса Вильде не отвечали, телефон молчал, соседи сказали, что те уехали в Ниццу. Алексей шатался по улицам в поисках работы, но с этим во Франции было еще хуже; стучался в двери, но не отворялось ему; наблюдал серчание в сердце и обиды на всех, кто оставил его одного, но вовремя посекал вспышки гнева. На то воля Божья, неустанно повторял он. Последние деньги ушли на ночлежку — ночевал на кладбище, в склепе маркиза. Захоронение было заброшенным — видимо, род угас, — завернувшись в газеты, задраив выход из склепа картонным щитом, так он прожил — без еды и питья — десять дней. Ребров усмехнулся: не верю! — смеялся и повторял: не верю! Вся история со склепом никуда не годилась. Алексей не написал ни что было за кладбище, ни имени маркиза. Да и кто бы выдержал десять дней в склепе! Зато с какой поэтической вдумчивостью Алексей описывал заброшенную часть старого кладбища! Покосившийся крест прислонился к обелиску, как старик, опирающийся на поводыря. Занесенные опавшими листьями холмики. Запуталась во вьюне статуя девы Марии. Шуршание мышей и завывание собак. Весенний луч вплетается в едва позеленевший куст сирени, как спица, пронзающая клубок. Алексей все это примечал, а сам крался вдоль ограды, ожидая наступления сумерек; оглядывался, перепрыгивал ручей, перелезал через ржавую изгородь…
Ну, ну, думал Ребров, давай, влезай в свой склеп, вымазавшись в земле… Склеп был чуть более вместителен, чем два гроба, писал Каблуков, и больше, чем те дупла, в которых сибирские монахи-схимники жили. Грех жаловаться! Тем более что я в нем свободней себя чувствовал, нежели в самом людном из мест. Даже свободней и менее одиноко, чем в монастыре!
Холод и голод Алексей преодолевал с молитвой; напевал протяжно, как уличный попрошайка у Казенной богадельни в Изборске, где по настоянию Старца, жил Алексей у отшельника Беглого, ходил к богадельне послушать, как молятся нищие, поучиться у них смирению. Прогуливаясь по улочкам Парижа, молился и не позволял предаться отчаянию. Вечером он снова крался к своему склепу, заворачивался в газеты, укреплял ногами картонный щит, молился…
На девятый день во время прогулки по набережной встретились ему люди, которые узнали его — обрадовались — им про него писали — они его ждали — руками всплескивали — произносили знакомые имена — приглашали к себе: еду и кров предлагали. Понял он, что их враг направил, соблазняет и от испытания уводит. Не пошел с ними, в склеп полез и на десятый день пел молитву Иисусову, и свершилось! Открылось Алексею, что не все потеряно. Понял он, что Богословский институт от него отвернулся, не получит он стипендии и места, но это не значило, что Бог от него отвернулся, наоборот: идти следует в ином направлении! Бог наставляет! В уме его возникла идея: преобразовать маленький студенческий кружок «Лотос» в Братство преподобного Антония. Святой Антоний поборол похоть и красную чуму. Вот и мы — выведем «красную чуму»! И это только начало, первый круг, который послужит основой для другой организации, та будет заниматься изучением болезней общества, преобразованием и подготовкой его для принятия соединенных истин земной и небесной, телесной и духовной сфер. Академия Христианских Социологов.
На этом история обрывалась; далее прилагался кодекс Братства преп. Антония, отчет секретаря Алексея Каблукова и список братьев, в котором рядом с именем Бориса Вильде Ребров обнаружил свое.
3Кунстник ездил в Тарту. Его что-то влекло. Возможно, чувство вины. Тимофей радовался ему. Показывал город. С восторгом отзывался о местных стихоплетах, цитировал Северянина. Водил на гору Дом-берг и там читал стихи Нарциссова и Новосадова. Кунстник старался не выпустить ухмылки. Ухмылка могла подкосить юнца, довести его до слез. Борис это понимал. Он видел его насквозь. Мальчик задыхался от восторга. Он все еще был прозрачен, как тогда, у залива. Они шли вдоль реки, кунстник с напускной серьезностью говорил:
— Читай почаще свои стихи другим. Это хорошая практика. Читать свои стихи вслух, громко, смело, с вызовом. Так лучше всего можно почувствовать фальшь, услышать недостатки.
— Боюсь, кроме вас, мне больше некому читать.
— Почитай их Ольге, Вере Аркадьевне…
Тимофей смутился.
В поезде Борис старался забыть о нем, но не получалось. Образ Тимофея преследовал его. В воображении портрет мальчика трепетал иной жизнью, по нему словно пробегали блики пламени (было бы страшно фотографировать). Сквозь черты Тимофея проглядывало другое лицо — его матери, и художнику становилось жутко. Он отворачивался в окно, купая глаза в небе, будто стараясь смыть с них образ.
Я не должен думать о нем. Не должен переживать. Плевать на него! Плевать! Я ему никто. И он мне тоже — никто.
Но точно так же, как не мог оторваться, подглядывая за сумасшедшими, Борис не в силах был прервать это мучение: вновь и вновь оживлял в сознании Тимофея. Прогуливаясь по улочкам Ревеля, мысленно говорил ему что-нибудь, чего никому никогда не сказал бы, читал его стихи на каком-нибудь пустыре, не замечая, как вокруг темнеет, — так он доводил себя до нестерпимого умственного припадка.
Что будет потом? — спрашивал он себя. — Что потом? Почему я не могу выкинуть его из головы? Кто привязал меня к этому мальчишке? Зачем? Ведь я ничем не могу ему помочь!..
— Мне наплевать на тебя! — кричал он в пустоту. — Наплевать! Слышишь? Тьфу!
Долго сочинял письмо, в котором придумывал причины, почему больше не сможет навещать его. У меня снова трудности на работе: работы нет. И это правда — работы стало меньше. Мои картины никто не покупает, хотя никаких картин нет. Я задумал новую серию картин. Давно ничего не писал, надо бы взяться за сборку. Ничего не выходит в последние дни. Не пишется. Не тот свет. Свет в этом году совсем мертвый. Ничего не родится. Берешь яблоко, а оно не живое. Так и не написал. Не смог. Это все равно что взять его и поселить в этой каморке.
Февраль 1927, РевельНесколько раз снился Париж, только был он в моем сне какой-то петербургский: огромные проспекты, дворцы, фонтаны, толпы людей и экипажи, моторы, над каждой улицей висел разноцветный дирижабль с фонариками, которые мигали, по Невскому проехал поезд, и я спросил кого-то: откуда Невский проспект в Париже? — Мне ответили: C’est le boulevard de Nevski, — и я успокоился.
Собираю картину, а она меня.
АпрельВремени нет
ножницами воду
делаем вид
Трюде к отцу приставлена судьбой, а я судьбой от всех отрезан. Я почти ничего не делаю, чтобы жить, и ничего не жду. Зачем я нужен? Спрягаю глаголы. Чего ради живу? Идет дождь, смотрю на дождь; идет снег, смотрю на снег. Ветер срывает лепестки — смотрю им вслед. Если жизнь воспринимать не как историю, но единовременное существование всего живого, то получается что-то вроде пыли в луче света.
Как monsieur Leonard сказал глядя на наш семейный дагеротип: II n’y a pas de lumiere sans ombre. Mais en effet tout est lumiere![51]