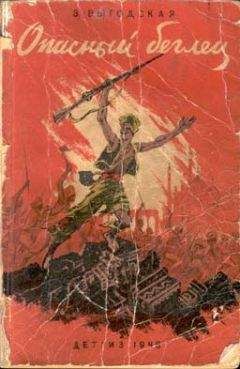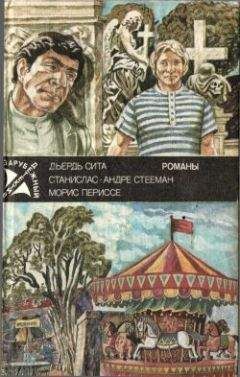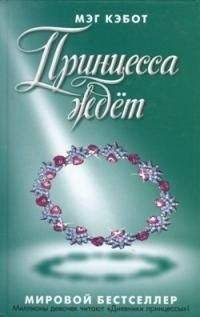Мишель Моран - Последняя принцесса Индии
Как всегда, волосы ее были тщательно расчесаны. Они струились вдоль красивого лица подобно водопаду и заканчивались на спине тремя седеющими косами. Но высокие скулы, которым завидовали другие женщины, выдавали истинную природу этой женщины: одни углы, никакой мягкости.
Я отставила тарелку с кушаньем, напоминающим йогурт с кусочками банана.
– Вы слышали, чтобы я жаловалась? – спросила я.
Ануджа ойкнула. Глаза бабки округлились. Я никогда прежде так грубо с ней не разговаривала.
– Как ты смеешь!
Бабка вскочила со своего стула. Я тоже поднялась из-за стола. Я была выше, моложе, сильнее. Она больше не запугает меня.
– Смею что, дади-джи? Отвечать? Зарабатывать сестре на приданое?
– И как же ты этого добьешься? Будешь искать ей мужа среди дурачков, которые спят на порогах храмов?
– Не оскорбляй Ану! – Я повернулась к сестре: – Ануджа, она была к тебе недобра?
В письмах сестра об этом не писала. Бабка рассмеялась.
– Это не оскорбление, это правда.
– Ты больше никогда не станешь говорить об Анудже так, как сейчас! – повысила я голос, а сестра закрыла ладонями уши. – Если я узнаю, что ее бьют, оскорбляют или обижают каким-либо иным образом, ты очень пожалеешь.
– И как же я буду жалеть?
– Однажды, когда твой сын состарится и не сможет больше работать, я буду единственной, кто будет вас всех кормить, – заявила я.
– И ты думаешь, что он позволит мне голодать?
От той легкости, с какой бабка отмахнулась от моей угрозы, внутри у меня что-то надломилось. Оказалось, мой бамбук не только гнется, но и ломается, образуя острые, словно ножи, края.
– Никто не знает, кто умрет первым, – сказала я. – Пусть тебе поможет Шива, если это будет твой сын.
Я отвернулась и вышла из комнаты. У себя в спальне я услышала шлепанье маленьких ножек Ануджи по коридору. Она с разгона упала на мою чарпаю.
– Дади-джи тебя убьет.
– Ану, это полнейший вздор. Теперь она больше не посмеет плохо с тобой обходиться. Теперь, если бабка тебя обидит или начнет тебе угрожать, ты должна написать в письме ко мне следующее: «Дади-джи была ко мне очень добра на этой неделе».
Глазенки Ануджи удивленно округлились.
– Поняла? Она обязательно найдет кого-нибудь, кто будет читать твои письма. Нельзя писать правду, но, если я увижу в твоем письме эту фразу, я узнаю, что происходит на самом деле, и приеду тебе на помощь.
Ануджа молчала.
– Повтори эту фразу слово в слово.
– Дади-джи была ко мне очень добра.
– На этой неделе.
– На этой неделе, – повторила она.
* * *Я изменилась, но не так, как казалось бабке. Я не считала, будто бы стала слишком хороша для того, чтобы спать на чарпае. Я не настолько привыкла к великолепным фруктам и карри, которыми лакомилась во дворце, чтобы не отдать должное стряпне Авани. Вот только мой разум, казалось, стал похож на песочные часы, а мысли в моей голове – на крошечные песчинки. Когда я стала дургаваси, мой разум-часы перевернули.
Во-первых, я больше узнала о жестокости. Прожив пять месяцев бок о бок с Кахини, я поняла, что бабкина озлобленность – то, что она холит и лелеет в себе. Бабка поливала эту свою злость до тех пор, пока она не разрослась подобно лиане и не заглушила все другие чувства. Во-вторых, я теперь знала, что такое настоящие страдания, увидела подлинную разницу между чрезмерным богатством и чрезмерной бедностью. Я не имела ни малейшего представления о том, что на самом деле мы бедняки, пока собственными глазами не увидела великолепие Панч-Махала. С другой стороны, регулярно раздавая в храме Махалакшми карри и сладости тем, кому нечего было есть, я осознала, что моей жизни в Барва-Сагаре можно позавидовать. А еще я думала о том, что при известной щедрости и великодушии те, кто сидит на коврах и ест из серебряных блюд, могут сделать жизнь других людей лучше.
Я не стала делать вид, будто в одночасье превратилась в Будду и теперь смотрю на окружающий мир, частью которого являюсь, ясным взором. Но кое-какие мысли все же вертелись у меня в голове. Я часто вспоминала Шри Раму, гуру рани. Интересно, что бы он сказал, если бы я поведала ему о жизни в Барва-Сагаре и женщинах, которые живут подобно попугаям в клетках.
По дороге к базару, шагая рядом с отцом и Шиваджи, я не видела на улицах других женщин. Мужчины на меня пялились. Чаще всего выражение их лиц было враждебным.
– Признайся, странно чувствуешь себя, нарушая законы пурды? – спросил Шиваджи.
– Сначала да, но теперь я скорее похожа на рыбу, которую выплеснули из большой бадьи, где она провела всю жизнь, обратно в реку.
В декабре воздух стал настолько холодным, что, казалось, кусался. Я дважды прочитала книгу стихов, которую дал мне Арджун. Наша семья сидела на подушках вокруг жаровни, Авани обмахивала тлеющий уголь. Я против своей воли вспоминала теплый дворец, где каменные полы покрыты коврами и вдоволь теплых одеял. Отец взял тетрадь в твердой обложке, которую всегда носил с собой, и поднес чернильную ручку поближе к огню, чтобы немного разогреть ее. Когда чернила нагрелись, папа написал: «Какой толк в Руми при дворе? Почему бы нам не заняться английским?»
«Рани ценит поэзию очень высоко».
«Какой другой поэт может сравниться с Шекспиром?»
Я задумалась. Мне не хотелось обижать папу, но и кривить душой я не собиралась.
«Мне кажется, что Руми такой же талантливый, пита-джи».
Отец нахмурился. Ему не понравилось мое новое увлечение.
«При дворе, – сообщила я, – английский полезен, но к нему относятся с неприязнью».
«Почему?»
«Англичан в Джханси не особо жалуют. Есть трения».
«Ты не из-за этого осталась у нас?»
Впервые отец спросил, почему я не возвращаюсь в Джханси, а остаюсь жить в Барва-Сагаре. Можно было поверить в недельный, даже двухнедельный отпуск, но Дивали наступил и закончился, рани вот-вот должна была разрешиться от бремени, а я не спешила возвращаться ко двору, чтобы охранять свою госпожу.
«Я вернусь ко двору через две недели», – написала я.
Он не стал на меня давить, но, бросив взгляд на Ануджу, написал: «У меня есть на примете человек, который ей подойдет. Если их джанам кундли сойдутся, я начну необходимые приготовления».
Брак будет означать, что сестра отправится жить в дом тестя, а папа останется здесь совсем один, ибо ни Авани, ни дади-джи писать не умели.
«Кто?»
«Ишан».
Сын Шиваджи. Я вспомнила заботу, с которой мальчик, придя к нам в дом, лечил сломанное крыло маленькой бюльбюль. Он лишь на семь лет старше Ануджи. К тому же сестра будет жить с отцом по соседству.
«Замечательно, просто великолепно», – быстро написала я.
Я задумалась о том, кого бы папа подыскал для меня, если бы жизнь повернулась иначе и я имела бы шанс выйти замуж. Отец потянулся и погладил меня по ноге.
Он написал: «Sab kuch bhagwan ke haath mein», что в переводе с хинди значит: «Все в Божьих руках».
Отец переговорил с Шиваджи. Они решили, что следует позвать брамина, дабы тот проверил соответствие джанам кундли будущих жениха и невесты. Я уже писала о тех трудностях, которые возникают у мангликов. К счастью, ни моя сестра, ни Ишан не имели никакого отношения к этим бедолагам. Брамин пришел к выводу, что их джанам кундли подходят.
Когда брамин ушел, Ануджа отыскала меня на кухне. Я как раз ставила емкости, наполненные водой, под ножки невысокого столика, на котором лежали овощи. Так насекомые не смогут добраться до овощей.
– Это правда? – спросила она. – Я выхожу замуж за Ишана?
– Да. В следующем году. Думаю, тебе не стоит говорить, как вам повезло, что у вас подходящие джанам кундли.
Ануджа «любила» поволноваться. Минуло несколько дней, прежде чем она свыклась с мыслью о том, что помолвлена. Затем она, как и большинство девятилетних девочек, совершенно выбросила все свои тревоги из головы. Когда Ануджа не помогала бабке на кухне, она играла со своими куклами. Постепенно тревоги сестры по поводу предстоящего брака улеглись, а я начала страдать от безделья. Было холодно ходить на базар либо вместе с отцом относить заказчикам вырезанные им из дерева вещи, поэтому я часто сидела у жаровни и читала Руми.
Будь верен тем, кто существо твое хранит,
Не трать себя, общаясь с теми,
Кто безразличным холодом разит
Души твоей прекрасные порывы.
Не обольщайся видимостью форм,
Зри глубже, всматриваясь в корень,
Чтоб грудкой праха, брошенною прочь,
Не развалиться, не снискавши крылья.
Когда, надломленный судьбой,
Ты упадешь пред хладною могилой,
Уже бессмысленно пытаться стать иным,
Тем, кем ты мог, но стал листком унылым.
Коренья силы из земли берут,
Живительною силой набираясь.
Зачем любовь, коль скоро от нее
Ты, увядая, тихо умираешь?
Последние две строчки меня озадачили. «Зачем любовь, коль скоро от нее ты, увядая, тихо умираешь?» Неужели моя любовь такая?