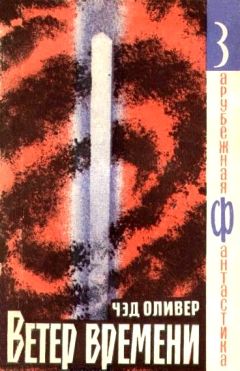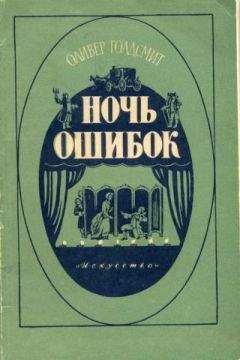Марта Меренберг - Зеркала прошедшего времени
Идалия молча отвернулась в сторону, нервно теребя в пальцах бахрому роскошной кашемировой шали. Откуда она знает…
Вчерашний разговор с Александром Христофоровичем не на шутку встревожил ее. Ей было приказано поговорить с Жоржем Дантесом о Натали. Отныне весь петербургский свет должен был на все лады повторять и муссировать одну и ту же сплетню – что у госпожи Пушкиной роман с Дантесом.
На вопрос – зачем? – она, как всегда, не получила ответа, а Бенкендорф начал раздражаться, полируя пальцами Георгиевский крест и стряхивая пепел на свой безукоризненный голубой мундир.
– И передайте поручику Дантесу, что в случае удачи – то есть если ему посчастливится завладеть… гхм… вниманием Натали Пушкиной, то я самолично сформирую в свете весьма выгодное для него мнение, что барон Луи Геккерн действительно является его отцом и что несомненный факт сего отцовства ему до времени приходилось скрывать.
– То есть нужно выставить Пушкина рогоносцем? – часто заморгала Идалия, все еще не понимая, к чему клонит шеф полиции.
– Простите меня, но не ваше дело, дорогая Идалия Григорьевна, рассуждать о вещах, которых вам все равно не понять! – взорвался генерал, потрясая красными, заплывшими щеками, упиравшимися в стоячий воротник мундира. – Рогоносцем… ну что ж, пусть побудет и им – не все ж ему обманывать свою прелестную Мадонну, пусть и она хоть раз наставит ему рога!
Бенкендорф резко замолчал, решив, что и так сказал недопустимо много, и сухо кашлянул.
– Поговорите с ним по душам, я бы сказал – деликатно, без нажима, Идалия Григорьевна – у вас это хорошо получается. Предмет-то больно уж того-с… игривый. Он ведь слушает только вас да еще своего обожаемого папашу Геккерна…
– Но… я не понимаю… он ведь и так ухаживал за Пушкиной… Даже за обеими – за Катрин тоже, кажется…
– Да! Но теперь это должно быть откровенно, театрально, на публику, чтобы ни у кого не оставалось сомнений – даже у его приемного отца! Так называемого… И чтобы никакой Катрин – только Натали!
Генерал снова кашлянул, взглянув на брегет. Идалия нерешительно встала и направилась к двери, шурша платьем, но Бенкендорф снова окликнул ее:
– С Пушкиным вы, конечно, поаккуратней – это человек непредсказуемый, и его вспыльчивый нрав мы тут, – он кивнул в сторону Миллера, молчаливо присутствовавшего при разговоре, – знаем давно. То есть вы скажите Дантесу, что ему придется теперь балансировать на грани… по лезвию бритвы ходить… ну а мы уж со своей стороны в долгу не останемся, слово чести…
– И он еще осмеливается говорить о чести? Да откуда ему, лукавому царедворцу, подлому лизоблюду знать, что это такое – честь? Для любого дворянина, аристократа, мужчины, в конце концов, – это не просто слова, Луи, это – образ жизни, главнейший ее принцип, установленный раз и навсегда порядок, а он…
Дантес уже в пятый раз прошелся по будуару мимо Геккерна, который только успевал с насмешливой улыбкой водить за ним глазами, сидя за утренним кофе с газетой в руках.
– И по какому праву он распоряжается моей жизнью, Луи? Нашей с тобой жизнью? Залезает ко мне в душу грязной своей лапищей и ковыряется в ней, отыскивая самые уязвимые места… И самое уязвимое место – это ты…
Жорж подошел к Геккерну и обнял его сзади за шею, прижавшись губами к уху и чуть прикусив его мочку. Луи вздрогнул, полузакрыв глаза, и скрутил перед собой на столе руки Дантеса, не отпуская их из своих.
– В душу, говоришь, лезет? Это вот сюда? – И барон, развернув молодого человека к себе, начал медленно расстегивать на нем сорочку, легко касаясь пальцами его гладкой, юной кожи.
– Луи! Ты можешь быть серьезным хотя бы в течение получаса? – тихо простонал Дантес, не особенно сопротивляясь тому, что происходило сейчас под его рубашкой. – Ты понимаешь, к чему меня обязывает этот старый жандармский ублюдок? Я теперь должен буду повсюду бегать за Натали, громко восхищаться ею, говорить ей казарменные пошлости, вздыхать, как влюбленный тюлень на зеленой травке, да еще ссориться из-за нее с Александром Пушкиным, которым я искренне восхищаюсь!
– А ты что-нибудь читал из его произведений, Жорж? – хитро прищурился Геккерн, не оставляя своих впечатляющих попыток отвлечь юношу от мрачных мыслей.
– Нет… Но мне Саша Строганов кое-что переводил из «Евгения Онегина». По-моему, просто потрясающе… Луи… о-о-о-о… что ты делаешь со мной, а? Ну так же нельзя… ты сводишь меня с ума…
– Неужели? – улыбнулся Геккерн, которому уже потихоньку удалось стащить с Жоржа сорочку, и теперь он, умело работая пальцами, принялся за его брюки. – Знаешь, за что я благодарен Бенкендорфу, Жорж? За то, что он тем не менее оставляет нам обоим право быть собой. Он же прекрасно понимает, что для тебя это только притворство, игра в любовь с прекрасной дамой во имя кого-то или чего-то, что лично мне совершенно неинтересно. Вот если бы он приказал тебе спать с капитаном Полетикой…
– Боже, Луи, какой цинизм! – расхохотался Жорж, только что обративший внимание на отсутствие рубашки. – Это что же – «Плох тот солдат, что не желает спать с генералом»? Русская пословица? Так, кажется?
– Ну и кто из нас больший циник? – Геккерн твердо решил не выпускать из рук свою гибкую и податливую добычу, которая к тому же сама рвалась в спальню. – Сейчас ты мне расскажешь, Жорж, как ты собираешься ухаживать за дамами – может, и меня, старого извращенца, чему-нибудь научишь… А где твое кольцо с сапфирами, mon cher? Ты больше не носишь его? Неужели потерял? – расстроенно прошептал он в ухо Жоржу, по-прежнему не выпуская его пальцев.
Жорж покраснел и спрятал лицо у него на груди, чувствительно прикусывая губами кожу.
– Я его не потерял, Луи… Лежит у меня на Шпалерной, под одним рисуночком… на набережной рисовал… Сегодня же надену… Прости меня… Простишь?
– Не-а. Даже не надейся, ты – дамский угодник, развратный бабник, бич рогоносцев…
– Скажи, что ты меня любишь…
– Дурак ты… Все тебе объяснять надо… По сто раз…
– Вот и объясни…
Горячая рука Геккерна накрыла его руку, и учащенный, сбивающийся ритм его сердца, их сердец, был почти материален. Дантес закрыл глаза, потом снова их открыл.
– Так мне темно… А так светло. Ты знаешь, Луи, от тебя, как от солнышка, сияние исходит. Правда…
– О-о-о-о… Ты будешь моим светом… Задерни шторы, Жорж…
– Вам письмо, Наталья Николаевна.
– От кого? – Натали мельком взглянула на изящный конвертик, принесенный горничной Лизой.
– Не сказали-с… Сказали – лично в руки передать, и ожидают ответа.
Наташа, запахнув на груди домашний капот, быстро прошла к себе и плотно закрыла за собой дверь. Вскрыв маленьким перламутровым ножичком конверт, она начала читать. Ее высокие скулы покрылись легким румянцем, тонкие, нервные пальцы чуть дрожали, накручивая вьющуюся каштановую прядь, грудь высоко вздымалась и опадала, глаза лихорадочно блестели, вчитываясь в ровный, крупный, с сильным нажимом почерк.
Как – прямо сейчас? Но я не одета, не готова к выходу… Нет, я не могу… Но и отказать – никак нельзя… Возьми себя в руки, Натали…
Горделиво выпрямившись и сделав строгое, безразличное лицо, она неторопливо вышла из комнаты и небрежно кивнула Лизе, топтавшейся у двери в ожидании ответа.
– Передай, что ответ положительный. И приготовь мне платье – то, кремовое, с розами… Я уеду до вечера.
– А Александру Сергеевичу не передать ли чего? – забеспокоилась маленькая темноглазая Лиза. – А то приедут они, как в прошлый-то раз, вас не застанут – и будут снова переживать… И Машеньке вы обещали в Летний сад съездить – сейчас крик подымет…
– Скажи, что я поехала к Вяземским! – не терпящим возражения тоном отрезала Натали.
– С мадемуазель Катрин?
– Нет… а впрочем, скажи ей, чтобы подъезжала. Часам к семи, не раньше…
Быстро пройдя в гостиную, Натали порвала записку и конверт на мелкие кусочки и бросила в печку.
Ей было страшно до дрожи, но предстоящий риск стоил ее волнений и страха. Она, и только она, должна быть первой красавицей в свете. Ни Шернваль, ни Полетика… Она, головокружительно прекрасная, недоступная и холодная, как звезда на северном небе, переливающаяся в сверкающей дымке шелка и бриллиантов, бело-золотистая, как драгоценная чайная роза на длинном стебле… Ее удел – блистать в свете, а не ходить по дому, тяжело переваливаясь, как гусыня, вечно беременная, с распухшими и отекшими ногами… Да и сколько же можно – надо беречь красоту, самую главную свою драгоценность, и не дать ей увянуть раньше времени только потому, что муж заставляет ее бесконечно рожать.
Муж… Она вышла за него замуж, потому что он считался первым поэтом России. Самым лучшим. И еще потому, что ненавидела свою вечно пьяную мать, ее побои и ругань, забитого, безгласного отца, слуг в Полотняном Заводе, которые хихикали и перешептывались за широкой спиной Натальи Ивановны Загряжской, споря между собой, с кем из челяди сварливая барыня нынче ляжет в постель, чтобы потешить свои обвисшие прелести. Она помнила, как однажды застала ее с садовником Мишкой в позе, не допускающей двойного толкования, и мать, глянув на нее из-под его спины, которую она сжимала своими жирными ногами, с пьяной ухмылкой заявила ей: «Посмотреть пришла? Так учись, дура!» – и расхохоталась.