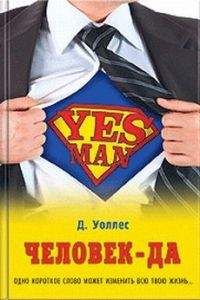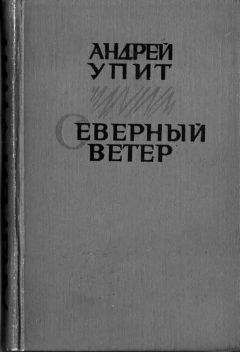Владислав Глинка - Дорогой чести
— Езди вечерами верхом — лучший моцион. Ужо я коня пришлю. Седло-то есть ли порядочное?
Но присылка лошади задержалась. В тот же день почтмейстер принес печатную реляцию о битве при Фринлянде. Как ни уклончиво была она составлена, но говорилось, что потери наши до пятнадцати тысяч, что отступили за Неман и начаты переговоры о мире.
— Ну и Беннигсен! Хорошо защитили пруссаков! Перед всем миром опозорились! — бушевал дяденька. — Подумать! В один день пятнадцать тысяч человек как в печку брошены!..
Семен Степанович досадовал весь вечер, за ужином от горьких чувств выпил стаканчик водки, а ночью — они спали по-старому в одной комнате — Сергей Васильевич проснулся от невнятного бормотания. Высек огня, засветил свечу. Дяденька силился сказать что-то, лицо было перекошено. Говоря успокоительное, поспешно встал, пристегнул деревяшку, накинул халат, разбудил Ненилу, Федька бросился к лекарю. Правая рука Семена Степановича была холодна и не поднималась. Правая нога тоже. Ремер пришел очень быстро, сразу пустил кровь, и на рассвете дяденька, успокоенный, заснул. Уходя, лекарь велел лежать две недели, иначе он ни за что не отвечает, и назначил лечение — нахлестывать молодой крапивой больную руку и ногу. Проснувшись к полудню, Семен Степанович пытался возражать — после кровопускания речь восстановилась, — но крестник умолил его подчиниться и послал в Ступино за Аксиньей.
Навещать больного приходили чиновники и купцы. Говорить о войне было строго воспрещено. Но она, оказывается, уже кончилась. Наш государь и Наполеон встретились в Тильзите и на плоту поклялись в вечной дружбе.
— Давно бы так, — сказал дяденька, услышав новость, — а то чуть меня не уморили. Собирайся, Аксиньюшка, в Ступино…
Следующее известие из газеты, принесенной почтмейстером Нефедьевым, было о производстве Аракчеева в генералы от артиллерии.
— Сколько ж лет твоему графу? — спросил дяденька, как всегда начиная откровенный разговор, когда вестовщик, выпив рюмку водки, закусив и выболтавшись, побежал дальше, к поручику Юрьевичу.
— Тридцать восемь вступило, он на полгода меня старе.
— Тридцати восьми по-нашему, прежнему, генерал-аншеф! Прыток! — сказал Семен Степанович. — Однако, ты говорил, деловой…
— А как вы думаете, дяденька, следует мне его поздравить?
— По-моему, вежливость того требует. А буде ответит, то положение твое в губернии еще поднимется. Нефедьев сряду Чернобурову про то отпишет. И не смущайся сими словами. Кабы для чего корыстного ты расположения графского искал, то было б дурно, а то ведь только чтобы глупые и нечестные тебя слушались…
Через месяц пришел ответ на поздравление, строченный писарской рукой, но с припиской: «Будь же здоров. Твой друг граф Аракчеев».
Конечно, принес это письмо сам Нефедьев. Печать с графскою короной внушила ему трепет. А когда, помня дяденькины слова, Непейцын показал почтмейстеру приписку, тот просто обмер.
— Да разве такое место вам занимать, Сергей Васильевич? — кудахтал он, всплескивая руками.
— А представьте, Иван Макарьич, оно мне весьма нравится.
— Ну полноте, что тут хорошего?! Разве что вотчина ваша близко да вот Семен Степанович прихварывают…
* * *Дяденька прислал гнедого трехлетка Голубя, и на нем Непейцын стал по вечерам выезжать за город. Садиться и слезать ему помогал теперь Федя, он же вставлял механическую ногу в стремя и застегивал ремень, который не давал отходить колену от седла.
— Вот бы мне выучиться ездить, Сергей Васильевич! — сказал он однажды, приняв поводья после проездки хозяина. — И Ненила Федоровна не так бы обмирала… Трудная, поди, наука?
— Не очень. Как приедет дяденька, то напомни спросить, нет ли в Ступине еще конька под верх.
А пока Непейцын ездил один, сопровождаемый вздохами Ненилы, для которой навечно оставался, видно, ребенком.
Однажды, когда проезжал мимо усадьбы Давидовых, его окликнули. У низкого забора, ограждавшего цветник, стояла черноглазая, черноволосая молодая женщина. Одета в городское серо-лиловое платье, но кожа лица и маленьких рук, как у крестьянок, загорелая. Причесана небрежно — под косу на лоб повязана лентой. Когда Сергей Васильевич подъехал и снял шляпу, она спросила:
— Правда ли, что Семен Степанович болел тяжело?
Пока Непейцын рассказывал, княжна смотрела ему в лицо так пристально, что даже стало неловко. Потом сказала:
— Ну, слава богу. Он теперь меня знать не хочет — наговорили, верно. А я его добро помню. Как же, сестру Аннушку грамоте учил и меня, малую, вместе. А потом крепостных ее мне оставил. Кто такое, кроме него, сделает? Может, жалеете, вам бы достались?.. Ну, прощайте, племянничек! Ведь вы мне племянником по сестре доводились… — Рассмеялась и пошла к дому, прямая, легкая на ногу.
— Прощайте, тетушка! — крикнул он и поехал прочь, подумав: «А ведь хороша… Сколько ей? Двадцать пять, верно… Как одна с хозяйством управляется?.. Надо у дяденьки подробней расспросить».
* * *Несмотря на совет Семена Степановича, исполнение субботних наказаний не было переведено в сарайчик городнического дома. Их по-прежнему производили в канцелярии после окончания присутствия. Непейцыну решительно претило видеть под своим окном подавленных ожиданием порки дворовых людей. Но то ли господа, жившие зимой в городе, выехали на лето в деревни, то ли по Лукам прошел слух, что новый городничий не велит больно наказывать, но число присылаемых в полицию заметно сократилось. Ну что ж, посмотрим, что будет с осени. А в дощатый сарайчик перебрался на лето Филя с верстаками. На двор его влекло и то, что за забором у купца Ломакина стояла высокая тесовая голубятня и десятки белых, коричневых, сизых птиц лепились по ее карнизам, ворковали и без опаски разгуливали у раскрытых дверей сарайчика.
— Экие красавцы птицы господни! — восхищался Филя. — А видали, Сергей Васильевич, как играют?..
Да, на это городничий любовался не раз. Сидя воскресным днем у себя в комнате, он слышал, как на голубятню взбирается сосед. Скрипят ступеньки, отдувается и пыхтит толстяк. Он в рубахе-распояске, босой, в руке длинная палка с навязанной на конце тряпкой. Вот добрался до сооруженной перед голубиным домиком площадки с перилами, отдышался, взмахнул шестом. И голуби не зря клевали его корм. Они умели тешить хозяина. Высоко-высоко взлетев в небо, белыми клубками, кувыркаясь много раз подряд, сыпались они вниз и вдруг раскрывали крылья над самой голубятней. А хозяин самозабвенно улюлюкал, вскрикивал, прыгал на скрипящей под ним площадке и вновь взмахивал шестом, хлопая, как бичом, тряпкой.
— У, шельмец! Герой! Суворов!.. Вот уважил… Ох, отец родной, ну еще разок! Ши-ши-ши! Да забирай выше! — стонал Ломакин.
Голубей в городе держали многие, и уже не раз к городничему являлись обыватели с жалобами, что сосед из зависти подшиб турмана, обкормил всю стаю отравленным зерном, выкрал лучших птиц. Приходилось вызывать обвиняемых, усовещать, порой грозить штрафом, даже холодной, чтобы водворить мир. Покорность великолучан в этих и других случаях Непейцын приписывал не своей мудрости, а тому, что почтмейстер растрезвонил, какие связи у него в столице, и что коли захочет, так «любого в порошок сотрет». Ну и ладно, правильно говорит дяденька, что здесь от Аракчеева польза…
В июле этот косвенный ореол еще увеличился. Нефедьев принес Сергею Васильевичу листок «Ведомостей» с высочайшим повелением: «Все объявленное графом Аракчеевым считать нашими указами».
— Вот, Сергей Васильевич, другу высокородному вашему какая неслыханная честь от монарха, — лепетал, шаркая ногами, почтмейстер. — Записано ли подобное на скрижалях гиштории?
А при следующем визите Нефедьев принес письмо Михаила Матвеевича, в котором с огорчением сообщалось, что Пете Доброхотову пришла бумага от цехового старосты с копией распоряжения инспектора всей артиллерии, которым запрещены мастеровым всякие отлучки и отпуски от заводов, почему Пете приказано явиться в Тулу, а выданный ему билет считать недействительным. С такой бедой резчик прибежал к Иванову, они ходили к ректору профессору Гордееву, который уже узнал Петино искусство, но и тот более не мог сделать, как обещать Доброхотову, что буде от завода освободится, то двери в Академию ему всегда открыты.
«Порадовал друг Аркащей! Одним росчерком пера загубил мечты, которыми жил столько лет юноша, — думал Сергей Васильевич. — Но что делать? Написать ему? Просить за Петю?..»
Но со следующей почтой пришло письмо от Захавы, который писал, что бранит себя, как не вмешался в дело Доброхотова. Не следовало слушать Сурнина, а начисто откупить Петю от завода, что было возможно при знакомстве Непейцына с генералом Чичериным, а возраст гравера таков, что наборы ему не страшны еще несколько лет. Но, впрочем, все это не более как пустое рассуждение, ибо, приехав в Тулу, Петя нашел свою матушку столь хворой, что отлучаться никуда не может. В письмо была вложена записка самого Доброхотова.