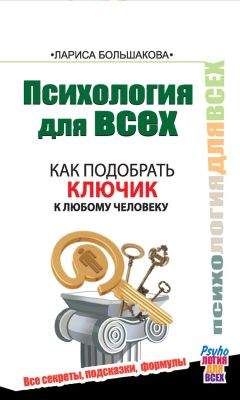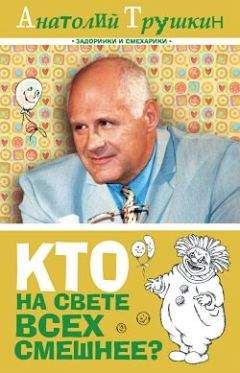Дмитрий Вересов - Генерал
– Это… заговор… – прошептала Стази, с ужасом понимая, в какой страшный водоворот затягивает ее судьба.
– Дура! – крикнул Рудольф, и Стази увидела, что ему стоило немалых усилий не потянуть руку к кобуре. – Русская дура! – Но в его словах услышался ей сугубо обратный смысл. – Я говорю только об изменении оккупационной политики и отказе от жестокостей. Без русских мы не выиграем эту войну. Это наша цель. Нет никакого заговора. Не придумывай ерунды!
И только в этот момент Стази явственно вспомнила рассказ второй женщины-коллаборантки, простой крестьянки из-под Пушкинских Гор, оказавшийся в Пушкине в поисках брата. Женщина с удивлением и даже некоторым смущением рассказывала о том, как спустя всего месяц после оккупации немцы наладили в бывшем распоследнем колхозе такое образцовое хозяйство, что в оранжереях росли «артюшки» (Стази с трудом догадалась, что так крестьяне называли неведомые артишоки). Конечно, большую часть продуктов немцы забирали себе, но и оставшегося с достатком хватало. А елка в барском доме на Рождество! Ведь всех детишек пригласили и подарки давали! И елку-то как украсили, стеклянными бусами, свечками и мармеладками. А детишек так просто любили, не обижались на проделки. И женщина, смущаясь и прикрывая рот уголком платка, рассказала, как деревенские мальчишки-дошколята, в том числе и ее непутевый сынишка, как-то решили по-своему отомстить немцам и, дружно присев поперек главной улицы, присыпали наделанное песочком. Возвращавшиеся с работ солдаты, разумеется, вляпались, но, проклиная русских свиней и прекрасно понимая, кто это сделал, не предприняли ни следствия, ни наказаний. И про рейд СС всегда предупреждали, и коней непригодных отдавали в хозяйство.
И на осторожный вопрос Стази, было ли страшно, крестьянка твердо ответила:
– Страшно оно, конечно, страшно. Ведь не знаешь, что завтра грянет. И враги они опять же. И верили мы все, что придут наши снова, освободят нас. А все ж такой спокойной и ясной жизни, как при немцах этих, у нас и не бывало никогда.
И это странное, дикое раздвоение сознания было так понятно, так близко Стази. Немцы несли порядок и свободу, но убивали родину. Пусть ненавидимую, обезображенную, жестокую… Как соединить эти чувства и как объяснить? Не рабской же русской психологией?
– Так вы хотите выиграть войну нашими руками? Или принести нам свободу от большевизма? – Рудольф молчал, не отвечая. – О, я знаю, что я никогда и никому не расскажу то, что сейчас услышала от тебя, только скажи, что ты не презираешь, не ненавидишь Россию, русских!
– Иногда мне кажется, что я почти люблю их, – тихо произнес Рудольф, – хотя и знаю, что это омут и пропасть, наваждение. Россия не должна существовать на земле, или никому в мире не будет покоя и порядка. Понимаешь ли ты, что мы все, вся Европа, живем под тяжестью, под страхом, что это огромная туша, нависающая над нами, в любой момент рухнет и раздавит нас, уничтожит все созданное за тысячелетия ума и воли, уничтожит бессмысленно, как неразумная природа во время катаклизмов… Но тому, кто раз попал в ее орбиту, очень трудно, почти невозможно отказаться от ее соблазнов, поэтому мы должны быть жестоки, иначе не выживем…
– Odi et amo,[102] я понимаю, – прошептала Стази, – но представь, каково нам, настоящим русским, не советским, а именно русским, испытывать почти те же чувства ненависти и любви одновременно. Это разрушает нас изнутри, мы становимся ни на что не годны, просто не способны действовать… Но я готова быть иной, я готова трудиться, работать, быть собранной и неутомимой, чтобы вернуть себе ту родину, которая не будет раскалывать меня надвое, я готова на всё…
И эта ночь в страстных песнях соловьев, в пьяном запахе цветущей бузины много часов обманывала Стази.
Поездки по лагерям продолжались, только теперь Стази напряженно всматривалась в мелькавшие перед ней русские лица, простые и не очень, стараясь увидеть в них хотя бы намек на ту раздвоенность, которую она носила в себе и которую так непосредственно выразила псковская крестьянка. Именно с этими людьми можно было работать, и Стази почти с радостью указывала на них Герсдорфу – и почти никогда не ошибалась.
Но, найдя себе дело, Стази проиграла в другом: она стала живой и потому уязвимой. Тщетно она смотрелась в зеркало, пытаясь увидеть в отражении ту маску смерти, с которой она выжила на фронте, в школе и первое время в замке Герсдорфов. Нет, теперь на нее смотрело нежное женское лицо, и улыбка не хотела сходить с губ. Чаще стала вспоминаться мать, детские подруги по даче, даже мелькнул несколько раз в памяти Колечка Хайданов, его жесткие неумелые руки. И все это пугало Стази: ей казалось, что с потерей холодности она теряет себя. Испытывая к Рудольфу только физическое влечение да еще чувство благодарности и уважение, она не обольщалась на его счет и почти ненавидела его за то, что он снова вынудил ее жить. А жить означало хотеть, бояться, терять – как раз именно то, чего нельзя было себе позволить сейчас ни в коем случае. Стази вновь и вновь рисовала перед собой картины ленинградского ужаса: развороченного Нардома, усеянную ошметками человеческого мяса решетку Летнего, гулкие звуки капающей в канализационные люки крови, детей, съеживающихся от воя бомб, – но фантазии подобного рода всегда немного условны, ее ужас от появившегося в небе креста был куда более реален и чудовищен.
А вокруг гремела весна, и глупому сердцу хотелось запретного…
30 апреля 1942 года
Лагерь был небольшой, всего человек двести, если не меньше, разделенный на группы по пятнадцать курсантов. Сроки обучения тоже не отличались продолжительностью: от двух месяцев до полугода в зависимости от успеваемости. Народ собрался разный, от крестьян, напуганных мощью немецкой военной машины, до идейных противников коммунизма. Но больше всего имелось, конечно, личных врагов Сталина. С ними, кстати, работать приходилось больше всего, они были как-то ограничены в восприятии всего остального. С лекторами тоже царила неразбериха, не дававшая выработать стройную единую систему преподавания. В основном лекции читали члены различных антисоветских организаций, таких как НТС, Дашнакцутюн, ОУН и прочие, которые, помимо преподавательской деятельности, вербовали в ряды своих организаций новых членов. Трухин всячески пытался разделить эти функции, но попытки удавались плохо, еще слишком свеж был азарт нового дела.
И снова начались вечерние посиделки в крошечной комнатке Трухина. Частыми его собеседниками были два генерала, по его настоятельной просьбе переведенные сюда из Хаммельбурга, – Прохоров[103] и Лукин[104], оба взятые в плен под Вязьмой еще осенью сорок первого. Конечно, он предпочел бы Благовещенского, но тот был слишком занят работой с РОВСом. И странно было видеть, как трое высоких, каждый по своему красивых русских генералов, до сих пор формально считающихся пленными вермахта, сидели за стаканами чаю и до бессонницы спорили о будущем России.
Артиллерист Прохоров, сорокалетний крепыш с прозрачными глазами, придававшими его лицу какую-то надменность, стоял за победу союзников над Германией и Россией, за что был прозван Трухиным «англоманом».
– Англосаксы всегда были передовой частью Европы в отношении и техники, и демократии. Их победа над гитлеризмом – только вопрос времени, а свержение сталинского строя произойдет уже автоматически.
– Держите карман шире, Иван Павлович, – возражал осторожный и всегда себе на уме Лукин. – Отца народов уберут только немцы, ибо только они, имея такого же диктатора, понимают опасность подобного строя.
– Ну уберут, а чем заменят-то? У немцев нет никакого опыта демократии, политического строительства, единственное, на что они способны, – временная военная диктатура. Зачем нам она? – В ясных глазах Прохорова стоял лед, и Трухин порой отчетливо представлял диктатором его самого.
– А вы, значит, батюшку-царя хотите. Знаю, ходят тут разговоры о Кирилле Владимировиче, но это хорошо дворянчикам, а мы, русские люди, простите, вот как наелись самодержавием!
– Эк вы нас, Михаил Федорович, – улыбнулся Трухин. – Даже и к русским людям нашего брата не причисляете. А между прочим, земские соборы – наше изобретение, а они будут подемократичней любых европейских парламентов. – Федор вмешивался в разговоры изредка, хотя слушал внимательно. Он всегда удивлялся той неизвестно на чем основанной значимости и уверенности, с которой так часто рассуждают русские люди. Что это: ограниченность или действительная вера, глупость или провиденье? О чем эти разговоры, если ты даже не можешь определенно признаться, любишь ты свою родину или ненавидишь?! – И, значит, в русского человека вы все-таки не верите, раз возлагаете честь освобождения родины на кого-то другого? А вот столь презираемые вами «дворянчики», а именно прошедший японскую и получивший Георгиевское оружие в мировую генерал Винский тут же – тут же, а не так, как мы с вами, по сию пору сидящие и попивающие чаек, – обратился с письмом в немецкий генеральный штаб с предложением о формировании отдельных русских частей на основе объединения всех воинских союзов…