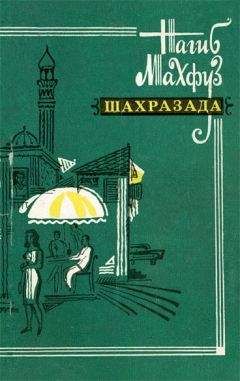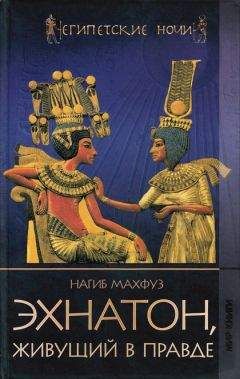Каирская трилогия (ЛП) - Махфуз Нагиб
Бедная Аиша: смерть отца возбудила в ней всю её скорбь, и она оплакивает и отца, и дочь, и сыновей, и мужа. Какие же горькие слёзы она льёт! Я сама, испытавшая такую горечь от потери ребёнка когда-то давно, что казалось, моё сердце излило всю свою кровь, сегодня переношу ещё один удар, но уже из-за кончины моего господина. Моя жизнь, которая была полна им, теперь опустела. Из всех моих обязанностей осталась только одна — приготовить самой или собрать в Суккарийе и Каср аш-Шаук благотворительное угощение и раздать в память о нём. Вот и всё, что осталось мне.
Нет, сынок. Найди для себя в эти дни какое-то другое общество, помимо нашего грустного сборища, чтобы не заразиться этой инфекцией скорби… Почему ты так хмур?.. Грусть создана не для мужчин, ведь мужчина не может вынести одновременно и тяготы, и скорбь… Поднимись к себе в комнату и займись чтением или писанием, как ты обычно делаешь, или пойди к своим друзьям и проведи с ними вечер. С самого начала творения дорогие и близкие люди покидают своих родных, и если бы все отдались на милость скорби, на земле не осталось бы ни одной живой души…
Я не так уж опечалена, как ты полагаешь. Верующему не следует горевать. Если угодно будет Аллаху, мы поживём и забудем, ведь ушедшего дорогого нам человека нельзя догнать, если только того не захочет Аллах. Так я говорю ему и изо всех сил терплю и креплюсь. Но когда появляется Хадиджа — сердце всего нашего дома — и начинает лить слёзы — тут уже и я не выдерживаю и плачу.
Аиша рассказала мне, что видела отца во сне — он держал за руку Наиму, а другой рукой — Мухаммада, а Усман сидел у него на плечах. Он сказал ей, что у него всё хорошо, как и у них. Тогда она спросила его о том таинственном окне из света, которое видела на небесах, но потом оно навсегда исчезло. В его глазах был лишь упрёк, и он не произнёс ни слова в ответ. Затем она спросила меня о значении этого сна. Как же ты смутила свою мать, Аиша… Но я сказала ей, что хотя дорогой ей человек умер, он по-прежнему печётся о ней, и потому посетил её во сне, приведя её детей из рая, чтобы она могла увидеть их и успокоиться, не омрачая душевного равновесия, цепляясь за грусть. О, если бы Аиша вновь стала прежней, как и в те времена, хоть бы на часок! Если бы все те, кто окружает меня, перестали грустить, я бы посвятила себя целиком и полностью этой глубокой снедающей меня печали.
Я свела вместе Ясина и Камаля и сказала им: „Что нам делать с этими дорогими вещами, оставшимися от вашего отца?“ Ясин ответил: „Я возьму себе перстень, он подходит по размеру на мой палец. А тебе, Камаль, достанутся часы. А чётки — вам, мама…“. „А как же джуббы и кафтаны?…“ Я сразу же вспомнила про шейха Мутавалли Абдуссамада — единственное живое воспоминание о жизни дорогого нам человека. Ясин сказал: „Он всё равно, что покойник; впал в забытьё и нигде не имеет пристанища“. Камаль нахмурился и сказал: „Он не узнал отца!.. Забыл его имя и равнодушно отвернулся от похоронной процессии“. Я встревожилась: „Как странно! Когда же это случилось?.. Господин мой спрашивал меня о нём вплоть до своих последних дней, он всегда любил его, и видел-то всего раз или два с того времени, как тот посещал наш дом на свадьбе Наимы. Но Боже мой, где теперь Наима и всё наше прошлое?“ Затем Ясин предложил отдать одежду курьерам в его отделе и дворникам в школе Камаля, ведь больше всего этого заслуживают бедняки, которые помолятся о милосердии Божьем в его последнем пристанище. Зато дорогие моему сердцу чётки не покинут меня до тех пор, пока я сама не покину этот мир.
До чего же приятно посещать могилы, несмотря на скорбь, что они вызывают. Я не перестаю посещать их с тех пор, как туда перебрался мой дорогой мученик Фахми. После этого я даже стала считать то место одной из комнат в нашем доме, хотя кладбище и находится на окраине нашего квартала. Кладбище собирает нас всех воедино, как и кофейные посиделки в былые времена. Хадиджа рыдает, пока не исчерпает все силы. Затем мы призываем к тишине из уважения к чтению Корана. А потом они начинают разговаривать, а я радуюсь тому, что это утешает скорбь моих близких. Ридван, Абдуль Муним и Ахмад ведут долгие споры, и иногда к ним также присоединяется Карима. Камаля также иногда подбивает желание принять участие в их разговоре, что смягчает мрачную атмосферу места. Абдуль Муним расспрашивает о своём покойном дяде-мученике, и Ясин рассказывает ему о нём. Старинные события оживают вновь, возвращаются забытые воспоминания, и моё сердце трепещет, ибо я не знаю, как скрыть слёзы, подступающие к глазам.
Я часто вижу, что Камаль насуплен и угрюм, и спрашиваю причину того, и он отвечает мне, что образ отца никогда не покидает его, особенно картина его смерти. Если бы только его конец был более лёгким!.. Я мягко сказала ему: „Забудь обо всём этом“, и он спросил, как можно забыть. Я ответила: „С помощью веры“, тогда он грустно улыбнулся и сказал: „Как же я боялся его в детстве, но в последнее время он открылся мне совершенно иным человеком, став дорогим другом. Каким он был нежным, остроумным, мягким. Он не знал подобных себе“. Ясин плачет всякий раз, как на него находит воспоминание об отце… Если Камаль предаётся скорби в угрюмом молчании, то огромный Ясин плачет, словно дитя, и говорит, что отец был единственным человеком, которого он любил в своей жизни. Да, у него были и отец, и мать, но он получал любовь, сострадание и заботу только под крылышком у отца. Даже суровость его была милосердной.
Я никогда не забуду того дня, когда он простил меня и вернул домой. Моя проницательная мать — да смилуется над ней Аллах — оказалась права, когда беспрестанно повторяла мне, что господин мой не из тех мужчин, что лишают детей их матери. Нас объединяла его любовь, а сегодня нас объединяет память от нём. В нашем доме не переводятся гости, но сердце моё находит покой только тогда, когда Хадиджа, Ясин и их семьи оказываются рядом со мной… Даже Зануба — до чего же искренняя её скорбь! Маленькая Карима сказала мне как-то: „Бабушка, пойдёмте с нами, ведь в эти дни у нас праздник — день рождения Хусейна, и возле нашего дома суфии будут проводить зикр, а вам так это нравится!“ Я поцеловала её в знак признательности и ответила: „Внученька, твоя бабушка не привыкла проводить ночь вне дома“… Она ничего не знает об обычаях в доме своего деда в те далёкие времена. До чего прекрасные воспоминания о них, о машрабийе, что была границей всего мира для меня, пока я ждала возвращения своего господина уже под утро. От его силы чуть ли не дрожала земля, когда он вылезал из экипажа, а затем заполнял собой всю комнату вдоль и поперёк. С лица его, пышущего отменным здоровьем, так и веяло бодростью повсюду. Но сегодня он не вернётся, и никогда больше не вернётся. Ещё до того он увял, скрылся от всего мира и оказался прикован к постели. Тело его исхудало и высохло, потеряв столько веса, что его можно было нести одной рукой. О печаль моя непреходящая!
Аиша сердито сказала мне: „Эти внуки не горевали по своему деду, они вообще не горюют ни о чём“. Я ответила ей: „Нет, это не так. Они горевали, но просто они малы. Да смилостивится над ними Аллах! Пусть не знают они, что значит тонуть в своём горе“. Она заметила: „Поглядите на Абдуль Мунима — он не прекращает спорить. Он не скорбел по моей дочери и быстро забыл её, будто её и вовсе не было“. Я возразила ей: „Нет, он долго скорбел по ней и много плакал. Однако скорбь мужчин не похожа на скорбь женщин. А материнское сердце — не такое, как все сердца вместе взятые. Есть ли такой человек, Аиша, что не забывает? Разве мы сами не отвлекаемся разговорами или не улыбаемся время от времени? Придёт такой день, когда даже слёз не останется в глазах. И где Фахми, где?“
Умм Ханафи заметила как-то: „Почему вы перестали посещать Хусейна?“ И я ответила: „В душе моей нет былого пыла ко всему тому, что я прежде любила. Когда зарубцуются мои раны, я навещу нашего господина Хусейна“. Она спросила: „А что ещё может залечить раны, если не визит к нашему господину?“ Так Умм Ханафи заботится обо мне, она хозяйка нашего дома и всех его обитателей, иначе у нас просто не было бы дома.