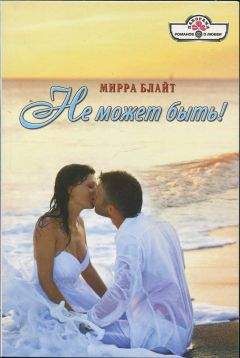Луи Арагон - Страстная неделя
Сейчас Огюстен, слушая Теодора, напоминал человека, который прохаживается по галереям Лувра, преисполненный чувства глубочайшего уважения к живописи и ко всем этим голландским или итальянским мастерам, но с трудом отличает одну от другой все эти картины, одинаково блестящие от лака, в одинаково богатых тяжелых рамах. Он не помнил «Успения богородицы», даже имя Караваджо услышал впервые. Ему вдруг захотелось узнать о художнике побольше. И он сказал об этом своему спутнику.
А Жерико продолжал говорить в полумраке Пале-Ройяля, где все, что окружало их, было до карикатурности пошлым, и извлечь отсюда прекрасное не всякому дано. Огюстен видел заношенное до дыр платье, лицемерие, написанное на лицах, следы пороков и преступлений, наложивших свою печать на этих людей, видел разжиревшие от обжорства или иссохшие тела, приметы серенького существования во всем облике прохожих: отсутствие свежего воздуха в тесных жилищах, воды для ежедневных омовений, усталость, накопленную днями и неделями изнурительного труда, страшную цену каждой вещи. Он видел сложный сплав социальных условий, в силу коих смешались в одну кучу продажные подражатели свергнутой аристократии и солдаты, разочарованные эпопеей, от которой остались лишь раны да вот эти залоснившиеся мундиры; они были во дворце, принадлежащем принцам, из которых предпоследний голосовал за смертный приговор своему кузену королю, на том самом месте, где стояли когда-то конюшни Орлеанского дома, и каким-то ноевым ковчегом представала эта Деревянная галерея, тянувшаяся через сад от крыла Монпансье до крыла Валуа, где все смешалось в эту дождливую ночь: жалкий сброд, и полиция, и поруганная слава, и революция, и похоть, и нестройные мысли, рожденные этой сумасбродной ночью марта 1815 года.
Жерико говорил о Караваджо и о его трудной жизни. О том, как этот художник, поднявшийся из низов, писал, приноравливаясь ко вкусам своего времени, и как Арпино, дававший ему работу, использовал его в качестве подмастерья, заставляя рисовать на картинах, которые подписывал своим именем, орнаменты и цветы. В Санта-Мария-делла-Скала посреди хоров висит богоматерь работы Арпино, и в ней есть все то, чего недоставало богоматери Караваджо. Кто знает, не работал ли он, изгнанный впоследствии из храма, потихоньку на своего нанимателя? Но когда он писал для себя, он, который с гордостью именовал себя Naturalista[11], — новое в те времена слово, полное ярости и вызова, — он отрекался от венецианской сладости, какой проникнуты его первые картины; и, взяв от Джорджоне только его изумительные тени, он влюбился в контрасты и видел в них основной принцип искусства и самую плоть живописи.
— В восемьсот одиннадцатом году я копировал «Положение во гроб», — говорил Теодор, — и благодаря этому сумел проникнуть в душу Караваджо. Но не знаю даже сам, что больше восхищает меня в его уроках: закон ли противопоставлений, или же самый выбор сюжетов. Все у него прямо противоположно тем женщинам, высший идеал каковых слой румян на щеках. Красота — это нечто тайное, а отнюдь не назойливость. Он писал убийства, ночные злодейства, пьянство, таверны, распутников на углу улицы, он не придумывал пышных одежд своим персонажам из народа, не превращал их в ангелов или в королев, и жизнь его была подобна его живописи, вихревая жизнь. На каждом шагу к этому вихрю примешивался вихрь опасности, потому что он изображал жизнь дна и сам вторгался в эту жизнь. Чего только о нем не наплели! Кто знает, с какими шайками проводил он на самом деле свои ночи на земле, он, создавший ночи на полотне, из мрака которых торчат волчьи зубы его забубенных дружков, и свет ночных факелов кладет блики на голое человеческое тело? Рим не сохранил ничего из этих проклятых картин, созданных его блудным сыном. Он покинул столицу Италии после того, как во время игры в мяч убил в приступе запальчивости одного из игроков: он не терпел плутовства. В Неаполе, где он встретил мальчика Рибейру{45}, своего ученика, царила в ту пору живопись Велизария Коренцо, грека, вдохновлявшего, по слухам, Арпино в дни его юности. Но ему пришлось уехать из этого испанского города, где господствовала мода на «красивость» и где даже Рибейра предал учителя ради «рафаэлизирования». Слишком черно, слишком черно, бедный мой Караваджо! Что ж, садись на корабль, который доставит тебя на остров, ибо художник там — чистая находка, до того осточертело островитянам зевать и глядеть на море, поджидая редкого паруса, да и то в кои веки. В удивительном поселился он краю… Представляю себе остров Мальту в шестнадцатом веке под владычеством странствующих рыцарей, осевших здесь, по соседству с испанцами и турками, — случайные властители народа, не особенно-то обожавшего своих господ, но все же предпочитавшего их оттоманским захватчикам. Ко времени приезда Караваджо на Мальту рыцари совсем истомились от безделья, ибо вот уже тридцать лет Турция не предпринимала вылазок. А народ еще больше к ним остыл. Сначала рыцари привязались к изгнаннику и даже подарили ему несколько рабов мусульман. Во время какой игры повздорил на сей раз Караваджо с тамплиером? Если, как утверждали, свет на его картинах подобен тюремному, то теперь он имел случай проверить это на личном опыте. А это не шутка — попасть в узилище на острове Мальте около тысяча шестисотого года! Говорят, что Караваджо обладал недюжинной силой и был так же смугл кожей и черен волосами, как его картины. Каким образом попал он в Сицилию? Вряд ли ему могло там понравиться, и, насколько мне известно, в Сицилии нет и следа его живописи. Рим был слишком близок, и ни Палермо, ни Мессина, ни Сиракузы не могли его удержать. Но когда он высадился из фелюги на берег где-то около Порто-Эрколе, испанская стража схватила его, правда, по ошибке, приняв за кого-то другого. Снова он высокомерно встретил тюремный мрак. Когда же его наконец выпустили и он, полуголый, ринулся на берег, надеясь разыскать фелюгу, где оставалась вся его одежда и пожитки, лихорадка, косившая в те времена жителей Неаполитанского королевства, уже подкралась к своей жертве. На берегу не было ни капли тени, и одинокий, полураздетый человек стоял под палящими лучами беспощадно жгучего южного солнца, от которых никуда не скроешься… Пылая в лихорадке, не видя ниоткуда помощи, он упал на песок, и в горячечном бреду наконец-то ему открылся тот залитый светом мир, изображения которого требовали от него люди с тонким вкусом; умер он вскоре после того, как его подобрали…
Можно было подумать, что дождь нарочно льет как из ведра. Суматоха в Пале-Ройяле была особенно нелепой и подчеркнуто смешной хотя бы потому, что люди, вбегавшие под аркады и галереи, были насквозь мокры, волосы прилипли ко лбу и щекам, платье измялось, и каждый переходил от страха перед завтрашним днем к надежде. Обрывки доносившихся до Теодора разговоров сливались в немыслимую смесь из воздушных замков и кошмаров, — наступал день сведения счетов. Тут были те, кто не совсем еще уверился, что уже пора менять шкуру, кто больше всего боялся, что не сумеет этого сделать. Были тут и охотники ловить рыбу в мутной воде, и люди, которые при всех случаях считали необходимым взять реванш, и мужчины под хмельком, и простой люд в том особо веселом настроении, которое овладевает им, когда он видит вековечную и кровавую игру сильных мира сего и их взаимоистребление.
— Что вы все-таки собираетесь делать, господин Жерико? — спросил Огюстен. — Если король решит бежать, вы последуете за ним?
Вместе с порывами ветра в саду кружилась ночь и раскачивались висевшие под аркадами кинкеты. Завтра утром в Новые Афины отнесут «Офицера конных егерей» и «Раненого кирасира», которых как раз сейчас снимают со стены Салона. Когда перестанет дождь, Орас Вернэ, быть может, заглянет к приятелю, не скрывая ликования по поводу возвращения своего корсиканского кумира, но также и затем, чтобы послушать рассуждения Теодора о живописи. А там, в аллее, когда он пойдет провожать Opaca, кто знает, не покажется ли в дверях греческого храма молодая креолка, просто выйдет подышать воздухом и увидит их. Каролина…
— Нет, — ответил Теодор. — Людовик Восемнадцатый может отправляться, куда ему угодно. Я лично остаюсь.
IV. Прощание в полночь
Вошедший слуга снял нагар со свечей, горевших в огромной люстре с подвесками, а также с лампы под разрисованным абажуром, отбрасывавшей неяркий свет на ломберный стол. Господа игроки даже не оглянулись. Ничего удивительного: недаром же они имели репутацию заядлых любителей бульота. Однако дамы отметили это обстоятельство сдержанным хихиканьем: при них оставался лишь один представитель сильного пола, друг мадемуазель Госселен, которого она повсюду таскала за собой, вполне бессловесный персонаж в щегольском оливковом фраке. Круто завитая шевелюра и бакенбарды котлетками, подпертые плоеным жабо, заправленным, как и полагалось, под белый пикейный жилет. Он взглянул на свои часы-луковицу с репетицией.