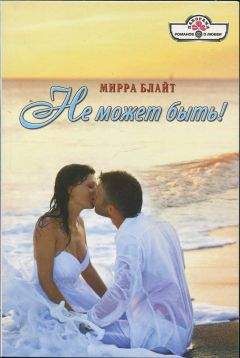Луи Арагон - Страстная неделя

Обзор книги Луи Арагон - Страстная неделя
Луи Арагон
Страстная неделя
Перевод с французского
{1}
Т. Балашова. История глазами художника
«Выбирать свойственно человеку» — эти слова были вынесены на рекламную лепту, сопровождавшую экземпляры первого тиража «Страстной недели». Автор словно предчувствовал, что неожиданный бросок от романа «Коммунисты» к началу XIX века введет в заблуждение не очень проницательных критиков. Действительно, Арагона похвалили сразу и за «ослепительный блеск стиля», и за «прощание с актуальными проблемами». Но самые внимательные поняли, что призыв — искать, выбирать — обращен непосредственно к современникам.
1815 год пришел в творчество Арагона не «на смену» 1940-му, воссозданному в «Коммунистах». 1815-й заставил размышлять и о 1940-м и о 1958-м, когда «Страстная неделя» появилась на стендах книжных магазинов. «Я не знаю, — писал Арагон, — может быть, эта книга, родившаяся на 61-м году моей жизни… и вдруг искусственно, чисто внешне обратившаяся в прошлое, — может быть, она является для меня самым важным вопросом к будущему… И, может быть, поэтому, по мере того как продвигаюсь я от вербного воскресенья к пасхе, в прозе моей все отчетливее, словно далекое, глухое подземное гудение слышится это беспрерывно повторяемое, то громкое, как удар барабана, то скрывающееся, то вновь возникающее слово — «будущее».
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства. Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовка шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.
«Позор, позор…» — ноет душа Жерико, присутствующего при паническом бегстве короля. А перед взором автора разворачивается картина другого отступления: тысяча девятьсот сороковой, мужество армейских батальонов на реке Маас, предательство генералов, тайно подписанная капитуляция… Романист использует «стереоскопический» эффект: мгновение освещено прожекторами нескольких эпох, герой виден одновременно с разных исторических горизонтов.
Почти каждый герой «Страстной недели» стоит перед выбором, ищет верного пути к грядущему.
В этом плане Теодор Жерико не составляет исключения. И все-таки его встреча с историческими противоречиями имеет особые параметры: история здесь увидена глазами художника.
Арагон прав, напоминая, что жанр исторического романа не случаен в его творчестве; столь же не случаен его интерес к фигуре художника. Ребенком сам Арагон любил рисовать, водил дружбу с внуком Клода Моне, считал праздником вернисажи. Потом он участвовал в спасении шедевров испанской живописи от франкистского варварства и первый раз ввел образ художника в свой роман — мятежный Блез д’Амберье из «Пассажиров империала». В 1941-м начата книга о Матиссе, рядом с которым Арагон провел трудные годы оккупации. Но раньше, чем эта книга (фундаментальное двухтомное исследование) была завершена («Анри Матисс — роман», 1971), Арагон написал множество статей о Пабло Пикассо и Фернане Леже, Шагале и Пиросманишвили, Ж. Руо и Анри Риу. Исследователи живописи высоко ценят книгу Арагона «Пример Курбе». Поэтому, когда в январе 1956 года пресса предложила вниманию читателей «отрывок из готовящегося романа», героем которого должен был стать художник и скульптор Давид д’Анже, подобный выбор был уже подготовлен. Но в процессе конкретизации замысла автор перенес внимание на эпоху более раннюю — к истокам реалистической живописи. «Без Жерико не было бы Делакруа, — объяснял Арагон. — Да и где получил бы тогда первый урок реализма Курбе?»[1]
Так Жерико становится героем художественного повествования. Центром исторического романа избрана личность, которая сумеет передать свою концепцию истории грядущим поколениям: на бессмертных полотнах Т. Жерико сохранена для нас целая эпоха.
Как возникли они? Что предшествовало моменту прикосновения к кисти, чем болела душа художника? Арагон пустил нас в его творческую лабораторию, только лаборатория эта под открытым небом, оглашаемая цоканьем копыт, ворчливой руганью солдат, разноголосьем мастерового люда, заполнившего лес под Пуа. Может показаться странной эта причуда — выбрать из жизни художника дни, когда он ничего не писал, дни, которые все биографы Жерико укладывают в несколько кратких фраз: «Поддавшись уговорам друзей, Теодор вступил в королевскую гвардию», или: «Сломленный провалом своего «Раненого кирасира» на выставке 1814 года, Жерико решил стать мушкетером» и т. п.
Но именно кризисные моменты истории формируют личность. Все, что прокричат пять лет спустя еле живые люди с «Плота Медузы» (1819), их гнев, их отчаяние — копились в душе Жерико исподволь.
С героями своих будущих картин, теми, что расплачиваются жизнью за авантюризм сильных мира, он знакомится на раскисших от дождя дорогах, на окутанных туманом торфяных полях, в освещенных пламенем горна кузницах. Замысел картины — это не просто композиция и выбор красок; сначала это концепция жизни, критерии добра и зла, перспективы нравственного идеала.
Неделя 1815 года предопределила замыслы грядущих полотен Жерико. Она пуста с точки зрения искусствоведов и полнозначна с точки зрения психолога, которым всегда чувствует себя истинный писатель.
За плечами Жерико, героя романа, — полоса успехов и поражений.
«Никогда еще французское искусство не испытывало таких внутренних противоречий и не пребывало в столь запутанном и сложном положении, как в современную Жерико эпоху»[2], — свидетельствуют специалисты. Жерико суждено было разрушить академическое спокойствие, царившее на полотнах. К началу XIX века Жак-Луи Давид приглушил пафос бунтарства, царивший в раннем его творчестве. Доминик Энгр отвратительному мещанству, утверждавшему себя в реальности, противопоставлял идеальную гармонию и безмятежную нежность своих портретов. Жироде и Герен сумели выразить трагизм эпохи только признанием иррациональной жестокости судьбы.
Искусство ждало художника, который бы заговорил о трагизме истории, а не рока, который бы увидел обыкновенных людей, страдающих здесь, рядом. Уже в мастерскую, где надо было просто рисовать с натуры, Жерико принес необузданный темперамент, — даже линии конских грив и крупов (к животным юноша был неравнодушен с детства) поражали. «Одна моя лошадь съела бы шесть его лошадей», — шутил Жерико по поводу строгих эскизов своего первого учителя — Карла Верне. Если кисть Жерико копировала торс натурщика, то обязательно в напряженной, «кризисной» позе: вот он, подавшись вперед, держит каску; вот он круто отвернулся от зрителя, опершись на копье; вот он чем-то возбужден или испуган: взвихрены волосы, диковатый взгляд, нервно трепещут мышцы, необычно освещение, резко очертившее мускулатуру (картина «Натурщик», хранящаяся в Музее изобразительных искусств в Москве). Когда Наполеон был в Москве и положено было славить победы французского оружия, Жерико кончил свое первое большое полотно «Офицер конных егерей»: вместо статично царственной личности генерала или маршала — один из рядовых бонапартовской армии; романтический порыв в неизвестность, на горизонте — полоса огня и дыма. Картина скорее тревожила, чем успокаивала. История подтвердила, что оснований для тревоги действительно было больше. «Раненый кирасир» — уже откровенно горестный итог наполеоновских безумств. Империя, предав идеалы революции, сама себя убила. Прежде чем согласиться на участие в ноябрьском Салоне 1814 года — совсем незадолго до решения, которое привело его в Гренельскую казарму и бросило на нары, — Т. Жерико колебался; Жак-Луи Давид, протестуя против реставрации, ответил отказом; большинство же коллег по кисти спешно писали портреты Людовика XVIII, самые хитроумные поступали так же, как Луи-Леопольд Буальи, — забелив трехцветное знамя и пририсовав лилию, он скопировал свою картину 1792 года «Портрет актера Шенара на патриотическом празднике» и сделал гравюру под названием «Знаменосец на общественном празднике, данном 3 мая по случаю возвращения Его Величества Людовика XVIII в свою столицу». Жерико не хотел ни молчать, ни подобострастно улыбаться. Он принес на выставку «Раненого кирасира» вместе с «Офицером конных егерей». И, конечно, поплатился за дерзость. Траурные ноты в Салоне, где надо было ликовать, подобны раскату грома. Продажные писаки хорошо знали свое ремесло, — умолчав о содержании, они начали критиковать художественное исполнение и бросили невинно-наивный вопрос: «Да можно ли вообще считать автора «Кирасира» художником?» Болезненное неверие Жерико в свои силы, подогретое такими «оценками», заставило его поклясться, что с живописью покончено навсегда. А отец-роялист предложил красивую форму мушкетера и даже помог купить отличного коня. «Как радовался Теодор, с каким ребяческим восторгом ходил он заказывать себе форму — красный мундир, две пары рейтуз — белые и серые, кашемировые брюки, плащ с алой оторочкой. Он часами мог забавляться, примеряя серебряную с золотом каску, увенчанную позолоченным гребнем и кисточкой из конского волоса, любовно проводил пальцем по черному бархату, которым был подбит подбородник». Косые взгляды друзей-республиканцев, например, Opaca Верне, не очень беспокоили Жерико: он никому не собирался служить, просто хотел отвлечься от горестных мыслей да погарцевать. Но история всегда смеется над подобными надеждами — «никому не служить». Не успел Жерико объездить своего любимца Трика, как Наполеон покинул остров Эльбу, королевских мушкетеров согнали в казармы.