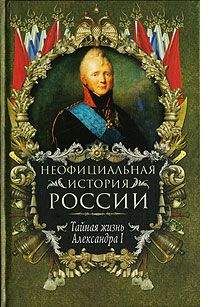Вольдемар Балязин - За полвека до Бородина
А как было, рассказывая о закладке Екатеринбурга, не помянуть Василия Татищева, коего батюшка называл подлинным основателем того города?
Гзеллы же и о Татищеве тоже ничего не знали не ведали.
И выходило, что хотя русские — народ храбрый, упорный, выносливый и терпеливый, но всю свою историю пребывающий без собственных вожаков и потому–то, по сравнению с прочими народами, мало чего добившийся.
А царь Петр, если почему и достоин прозвания «Великий», то прежде всего потому, что первым из всех русских царей обратил взор свой на Европу: на Голландию, Швейцарию, Данию, Германию и иные просвещенные страны. Сам поехал туда, доплыл даже до Англии, познакомился с самим великим Невтоном, облазил верфи и мельницы, библиотеки и кунсткамеры и, поразившись европейскому благочинию и богатству, увидев расцвет ремесел и промыслов, решил: быть сему и в России!
А кто мог построить корабли и создать новую регулярную армию? Кто мог отыскать руды и составить карты? Перевести на российский язык книги по механике земной и небесной, по фармацевтике, химии и иным наукам, в России неизвестным?
Гзеллы отвечали: иноземцы.
И выходило, что без них Россия пропала бы, а если б и осталась жива, то пребывала бы в прежнем своем состоянии — в дремучем невежестве, бедности и великой косности.
Правда, Гзеллы называли и природных россиян — Меншикова, Головкина, Шереметева и многих иных, которые не уступали иноземцам в талантах, но выглядели они в изображении наивных швейцарцев способными, иногда даже очень способными учениками, да, всего лишь учениками — не более того.
А Миша, размышляя над тем, что слышал от них, вроде бы должен был признать их правоту: многое из того, что он видел вокруг себя, подтверждало справедливость сказанного его учителями — в Петербурге и его окрестностях стояли дворцы, воздвигнутые иноземными зодчими, пред окнами его дома шли по Неве построенные с их помощью корабли. И не было никакого различия в том, что творили их руки или руки его сородичей и соотчичей, русских зодчих и корабелов.
Однако Миша чувствовал и нечто большее, он ощущал еще и то, что роднило созданное и теми и другими, — все это было сотворено во благо России и ей во славу. И все же чувствовал, что если это и правда, до только не вся.
И однажды при случае спросил он о том дядьку своего Прохорыча.
— Что же, — сказал отставной солдат, — видели мы и иноземцев. Были они, конечно, разные. Были злые, бывали и добрые. Были заячьи уши, бывали и удальцы. Да посуди сам, Миша, сколь их было–то? Ну, один на сотню. Ну, два. Вот, при Гангуте, например, вел наш отряд скампавей англичанин — капитан Дежимон. Как и положено, был впереди, на первой шлюпке. На абордаж бросился первым, да разве взял бы он в одиночку линейный корабль? Брали его наши солдаты да матросы. Они и были главная сила. И так, Миша, во всем, во всех трудах, Миша, и во всех баталиях.
Когда же заговорил он о том же с бабушкой, та даже рукой досадливо махнула:
— Полно тебе, Михаил, вздор молоть. Какие иноземцы? Мы, слава богу, почитай тысячу лет без них обходились. И мнится мне, лучше, чем ныне, жили. Понатащили всякую ерунду, чушь всякую: кофей да куафа, фигли–мигли да глазеты там разные. Соблазн от них, грех и пустое времяпрепровождение.
На что сейчас деньги тратим? На парики, на чулки, на ленты да кареты, коих у нас не видывали.
К чему влечемся? К вину, к картам, к праздному шатанию из дома в дом. К пустым пересудам, как там у них, в Париже да Лондоне, все отменно хорошо, а у нас, в Москве да Питербурхе, все совсем уж худо.
А не будь этой заразы иноземной, жили бы мы по Древнему нашему благочестию: заместо кабаков ходили бы в церковь, заместо ассамблей — на посиделки, табачища б не курили, по феатрам не бегали и на ита–лианских девок, что, заголившись, по сцене скачут, не таращились бы.
Миша суждения бабушки не принимал: казались они ему больно уж замшелыми и какими–то деревенскими, что ли.
В конце концов спросил он о том и отца. Хотел сначала выяснить, кто таковы Ренне, Гольц, Боур, которых называли в доме Гзеллов, не раскрывая того, какие именно деяния стояли за их именами.
Батюшка рассказал о каждом из них. Были все они генералами–ландскнехтами, сиречь наемниками, и честно отрабатывали государево жалованье, как могли и умели.
Ренне и Гольц были из немцев, а Боур перешел на русскую службу от короля Карла XII, у коего был он кавалерийским ротмистром и против собственного природного государя ратоборствовал целых семнадцать лет.
В сражении при Лесной, самим Петром прозванным «матерью Полтавской победы», стяжал Боур славу одного из главных виновников успеха, вовремя подоспев со своим пятитысячным корволантом к полю боя. А вслед за тем отличился Боур и в Полтавской баталии, командуя правым флангом всей русской армии.
«Ну вот, — подумал Миша, — одна разгадка вроде бы есть: были иноземцы наемниками. Иные честными, а иные нет». Но все же было это лишь одной из черточек того непростого группового портрета, который он хотел нарисовать, а множество других штрихов, красок, тонов и полутонов еще ускользали от него, маяча где–то в отдалении, ускользая, рассеиваясь.
И тогда он спросил отца:
— А что, папенька, все ли иностранцы почитали себя ландскнехтами, или же были и такие, что с нами сроднились и служили уже не за жалованье, а из любви к новому своему отечеству?
И батюшка ответил:
— Были.
Беседа 5
О славе Отечества и о гордости за него — подлинной и мнимой; о национализме и космополитизме, о шовинизме и расизме — явлениях столь же старых, как и мир, но перед каждым поколением непрестанно предстающих в новом обличье и нередко под не своими личинами, дабы сокрыть свое уродство привлекательными масками, не имеющими с их существом ничего общего.
Любезный мой читатель!
Прежде чем мы сумеем правильно понять существо проблемы, нам будет необходимо разобраться в вопросах довольно непростых.
И потому разреши мне предпослать нашему с тобой дальнейшему разговору небольшое отступление, которое необходимо для того, чтобы мы говорили на одном языке — языке науки.
Ты, конечно, понимаешь, что Мише Кутузову, девятилетнему мальчику, живущему в этой повести за двести с лишним лет до тебя, вопросы об иноземцах, об их долге новому своему отечеству, об отношении к ним коренных жителей России казались очень непростыми.
Даже и сейчас легкими и однозначными их тоже не назовешь. И потому я познакомлю тебя с четырьмя терминами, которые нередко встречаются тебе, но, возможно, ты не всегда над ними задумываешься.
Эти термины — национализм, шовинизм, расизм и космополитизм. При всей их кажущейся несхожести есть в каждом из них нечто особенное, но есть тем не менее и общее.
Националисты считают свою нацию самой лучшей, совершенно исключительной, а все прочие народы и нации — второстепенными или даже третьесортными конгломератами людей низшего порядка.
Для националиста весь мир, все народы и нации интересны постольку, поскольку полезны для существования, развития и благоденствия его нации.
При этом националист свои собственные интересы связывает со своей нацией и потому в ее успехах заинтересован так же сильно, как и в своих собственных. Отсюда все враги его нации воспринимаются националистом как его собственные, и он зачастую совершенно искренне отождествляет себя со своим народом, а народ с самим собою, не понимая, что он — это он, а народ — совершенно иное.
Когда же усилиями националистов дело дошло до крайности и отдельные нации стали противопоставляться всем прочим, раздуваясь от чванства, высокомерия и надменности, на сцену истории выполз шовинизм — явление еще более уродливое, чем породивший его национализм. В описываемое нами время этого термина еще не было, но шовинизм вызревал уже в колониальных войнах, в покорении более слабых народов, в пренебрежительном отношении к «дикарям» и «инородцам».
Само название «шовинизм» произошло от имени комедийного персонажа — Никола Шовена, выведенного на парижские подмостки французскими драматургами — братьями Коньяр.
Глупый, самонадеянный, спесивый новобранец Шовен, над которым в 1831 году потешался зрительный зал, усилиями подобных ему малограмотных маньяков через столетие стал синонимом чудовищного произвола, диких насилий, став одной из основ человеконенавистнической фашистской идеологии и причиной гибели многих миллионов людей, чья «вина» только в том и состояла, что они не принадлежали к «избранной» нации и расе.
Сродни шовинизму и расизм. Только если шовинизм, унижая все прочие народы и нации, возвеличивает одну нацию — свою собственную, то расизм делает то же самое по отношению ко всем прочим расам, унижая все другие, кроме своей.