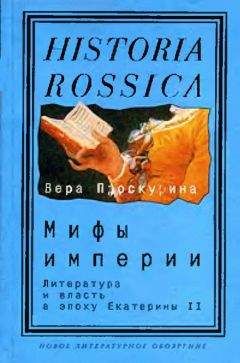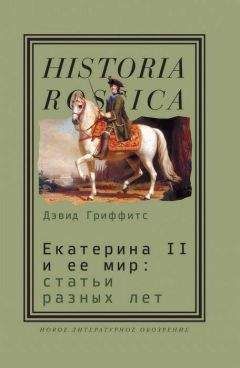Ариадна Васильева - Возвращение в эмиграцию. Книга первая
Да взять хотя бы Татку. У нас разница всего в три года, а летние русские лагеря ее уже не интересовали. Сделавшись старше, она превратилась еще и в русофобку. Если видела, к примеру, неказистое здание, обязательно говорила:
— Полюбуйтесь, наверняка строил русский архитекторишка.
— Но почему же, Тата!
— А, у русских все кривобокое.
Даже внешность ее претерпела изменения. К шестнадцати годам она ничем не выделялась в толпе.
В детстве была обыкновенной русской девочкой, курносой, с круглыми глазами, а тут, откуда что взялось! Весь облик переменился. Она перестала походить на мать, отрастила челку, разрез глаз сделался немного вкось, как у белки, носик выточился и слегка приподнял верхнюю губку, как-то по-особому изящно приспособленную для французской артикуляции. Любимым ее занятием стало выискивать в нас французистость. По ее понятиям, это являлось признаком породы. А русские… так, ни то, ни се — дворняжки.
Зато мы, старшие, купались в лучах романтических грез и мечтали когда-нибудь, в будущем, но обязательно прославить во Франции свои русские имена. Нет, мы не собирались, как мама, утирать французам их занудливые носы, мы все-таки успели полюбить Францию, но выделиться, подчеркнуть свою принадлежность к великому народу России, к ее культуре, наивно и вдохновенно, ну, очень хотелось.
Марину удостоил вниманием «настоящий художник». Он побывал на Монпарнасе и одобрил ее работы. Теперь она думала только о художественной школе. Ирина Арташевская непременно хотела стать доктором и лечить детей. Маша больше склонялась к строгой инженерной мысли, ей хотелось проектировать, строить. Настя, правда, во время наших полетов в заоблачные выси смотрела на всех чуть испуганно. И только Нина Уварова твердо, обеими ногами, стояла на грешной этой земле.
— Ах, девочки, а вот я ничего этого не хочу. Вырасту, выйду замуж и нарожу двух мальчиков.
— У-у-у, — перебивали мы ее дружным хором, — выдумала тоже! Замуж. До этого еще далеко.
Но о чем мечтала я? Какие грандиозные планы кружили мою голову? Гадать нечего, — театр. Никакого иного пути я не видела. Мамино присутствие в лагере окончательно решило мою судьбу. Я всем доказала, что лучше меня никто не сыграет черта в «Сорочинской ярмарке».
Годам к пятнадцати я стала расцветать и уже могла безо всякого отвращения смотреть на свое отражение в зеркале. Даже слегка закругленный на конце нос не являлся помехой для сцены. Девочки отмечали красоту моих больших серых глаз, находили ладненькой фигурку. Даже мама, скупая на комплименты, однажды взяла меня ладонями за щеки, повернула к себе и, улыбаясь, сказала:
— Наташка, а ты становишься хорошенькой.
С мамой мы составили дьявольский план. После лицея я поступаю в платную театральную школу. Таких школ было несколько, и поступить туда мог каждый желающий. Только деньги плати. А вот самых способных уже из этих школ брали в Комеди Франсез или в кино. Но я-то была, несомненно, способной!
Иногда, в пасмурные дни, мы уходили с мамой в дюны, устраивались в какой-нибудь ямке, чтобы не задувало с океана, и смотрели, как кланяются под ветром тонкие и жесткие камышинки, трепещут кусты вереска, как застревают у их основания маленькие горки сыпучего песка.
— Знаешь, — задумчиво говорила мама, покусывая сорванный стебелек, — искусство, оно как тать в ночи: жизнь или кошелек. Да отдай кошелек и живи. И будешь счастлива. Все наполнится смыслом, душа станет спокойной. Радостной будет душа. Понимаешь?
— Понимаю, — отвечала я и смотрела во все глаза на свою мать, обретшую и счастье, и покой.
Я хотела во всем походить на нее. Я давала зарок так же остервенело трудиться на репетициях, не щадя ни сил, ни нервов. Блюсти чистоту театральных законов. Не для славы, не ради букетов, почтительно подносимых благодарной публикой, но ради того хитрого маминого ночного грабителя. Кошелек он, конечно, отнимет, но жизнь-то, жизнь оставит! Великую возвышенную жизнь. А если она не великая, не возвышенная, то зачем она?
— Так? Да? — пытливо смотрела я в мамины изумительные глаза. — Ведь если не служить искусству, то и жить незачем, правда?
Она задумчиво грызла стебелек, медлила с ответом, словно раздумывала, стоит ли взваливать на меня неведомую тяжесть. Потом разлепляла чуть обветренные губы.
— Так. Да. Вот про это я тебе и толкую.
Я заново влюбилась в маму. Я помнила ее со стертыми на заводе Рено руками. Я помнила, как она плакала у моего изголовья в больнице. Она месила тесто для пасхальных куличей, штопала мои вещи или пыталась объяснить разницу между правильными и неправильными глаголами. Она уговаривала меня смазать ссадину на коленке… Все это была просто мама. Дорогая, любимая, нетерпимая к подлости, трусости и вранью. Это она, узнав о чьем-нибудь неблаговидном поступке, говорила:
— Все. Этот отныне для меня покойничек.
И вычеркивала из списка знакомых, и не было никакой возможности восстановить потом в правах провинившегося.
И вот эта мама стала вдруг артисткой! Не в грустных воспоминаниях, а наяву, взаправду. Она вышла на сцену, и зал замер при первых звуках ее полного, словно колокол, голоса.
Но и этого было мало. Она позвала меня за собой. Она вывела на дорогу, сказала:
— Вот твой путь. По нему иди.
Все обрело новый смысл. Каждая репетиция для лагерного костра, самый пустяковый разговор с моими новыми подругами, берег океана после отлива, ракушки на мокром песке, выброшенные из пучины морские звезды, мяч, летающий через сетку… И эти дюны. И вереск, и ветер, и милая русская песня:
Спустись к нам, тихий вечер,
На мирные поля.
Тебе поем мы песню,
Вечерняя заря.
Единственное, что отравляло эту райскую жизнь — да простятся мне все прегрешения! — церковь.
Вообразить только! Светит солнце, океан смирен, как дитя в колыбели, что с ним бывает не так уж часто. Но по лагерю бегают заведующая Римма Сергеевна и некая Антонина Ивановна, белобрысая, с тощими косицами венчиком и противно вякают:
— Девочки, все идут в церковь! Все идут в церковь! Настенька, мы тебя видим, ты стоишь за деревом! Наташа и Марина, сию же минуту вылезайте из палатки! Все идут в церковь!
Коротенькие утренние и вечерние молитвы мы переносили спокойно и даже благочестиво. Но идти средь бела дня в душное помещение, выстаивать утомительные службы… Сил не было. Мы отлынивали, мы проносили мимо ушей въедливые замечания Антонины Ивановны. Наверно, поэтому ровно через год, в таком же веселом лагере, только устроенном на берегу Средиземного моря, я на многие годы совершенно отошла от церкви.
До пятнадцати лет я была очень набожной. Знала множество молитв, под бабушкиным руководством читала Ветхий и Новый Завет. Но бабушка — другое дело. Бабушкин Бог был добрый и умный. У него никогда не возникало желания ввергать в геенну огненную маленьких детей за их невинные шалости.
В то лето я стала тяготиться необходимостью ходить на исповедь, исповедовалась неискренне. Душевные сомнения предпочитала поверять не попу в душной церкви, а маме или Марине, или Насте где-нибудь на берегу под соснами. Все это мучило меня, выводило из равновесия.
В тот год в нашем лагере было два священника. Один — совсем молоденький, и не из белого духовенства, а монах. Мы любили вечерние беседы с ним и не всегда могли удержаться, чтобы не задать каверзный вопрос и не вогнать в краску. Монашек легко краснел.
К нему я и пришла со своими сомнениями. Он внимательно выслушал, отнесся по-божески. Епитимью не наложил, каяться в грехах не заставил.
— Что ж, — задумчиво мял он в пальцах крошечный огарок свечки, — раз не чувствуешь потребности в исповеди, не ходи, не насилуй себя. Веруй. Жди. Бог тебя вразумит.
Я верую. Бог — везде. Он не только на иконе, не только в церкви. Он в каждом дереве, в каждой травинке, протянутой к солнцу. Я обращена к нему не словами молитвы, не мыслью даже, но всем существом моим, током крови.
Но на исповедь я не ходила много лет.
Перед отъездом в Париж «Зверинец» устроил совещание. Решено было не распускать нашу группу, а создать на ее основе новый кружок, каких было много на Монпарнасе. Аннушка предложила название — «Радость». Мы подумали и согласились. «Радость» так «Радость». К зиме нас набралось двенадцать человек, и в таком составе кружок просуществовал три года. Не было на Монпарнасе группы дружней и сплоченней.
Зимой собирались по воскресеньям и четвергам в специально отведенной комнате на втором этаже особняка. Дурачились, устраивали беготню по лестнице. Решили нас приструнить и назначили новую руководительницу. Нам она не понравилась. Некрасивая, с длинным лошадиным лицом. К тому же еще заика.
Прошло немного времени, и мы полюбили Любашу Каратаеву и вместе с ней смеялись, вспоминая первоначальную неприязнь. У Любаши оказалось множество достоинств. Во-первых, она была прекрасной спортсменкой, а спорт занимал в нашей жизни далеко не последнее место. Во-вторых, она пела. Ее можно было слушать часами, во время пения пропадала некрасивость лица, исчезало заикание. Оставалась одна душа, чистая, трогательная, не испорченная тяготами повседневной жизни. Любаша много работала массажисткой и содержала мать, сварливую барыньку. А та измывалась над некрасивой дочерью, как только можно. Дочь безропотно терпела сумасбродные выходки матери и подчинялась во всем.