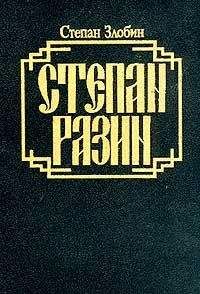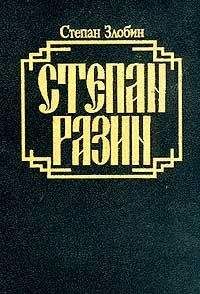Степан Злобин - По обрывистому пути
— Митя, опомнись! «Если есть у тебя фонтан, то заткни его, — дай отдохнуть и фонтану», — с сумрачным юмором процитировал второй рязанец, некрасивый, угрястый, чернявый верзила с добрыми карими глазами.
— Кузьма Прутков — пророк заплесневелой пошлости. Никогда не цитируй его в приличном обществе, — отпарировал говорун.
— Подставляйте стаканы, коллеги. В чайнике ровно полведра, — объявил третий товарищ, Мишка, маленький, щуплый, с тонкой шеей, в очках, нагладко стриженный, выложив на оберточной бумаге нарезанную чайную колбасу и еще не остывший, благоухающий ситник.
— Пролетарии всех факультетов, присоединяйтесь, — пригласил и говорун, первым подставив огромную кружку под темную струю чая.
Выпьем, чаю, друзья,
Нам без чаю нельзя,
Наливай же горячего чаю, —
опять запел он.
Коль я три дня не сыт,
Чай да кус колбасы
На три дня мне обед заменяют! —
подхватили его товарищи, устраивая себе бутерброды, достойные Гаргантюа.
Кто, откуда, куда, с каких факультетов и курсов, — завязалось знакомство.
Снова набились в купе самарские и сызранские студенты, послышалось волжское «оканье», перебиваемое рязанским «аканьем».
И снова Вася заговорил со всеми о том же, о своем: о поддержке питерцев силами всех городов, об общестуденческих задачах всей молодежи.
Фрида смотрела на Васю блестящими, казалось — даже влажными от восторга глазами.
«Как Мария на Иисуса Христа», — подумала Аночка.
— Что, господа, беспорядки устраивать едете к нам в Белокаменную? — раздался добродушно-насмешливый голосок.
Все подняли головы, обернулись в сторону усатого, плотного господина из чужого купе, который стоял в проходе, может быть, даже довольно давно, и слушал полуоткровенные речи Васи.
— Собираемся, полупочтенный милгосударь, беспорядки кончать и наконец-то порядочный порядок устраивать, — неожиданно резко сказал мелкорослый рязанец Мишка. — А вам, собственно, что? Вы хотели чайку попросить? — решительно подступил он к усатому.
— Да нет-с, просто так-с, побеседовать, — смущенно робея, откликнулся тот.
Аночка с укоризной взглянула на невежливого коллегу.
— Может быть, вам карандашик, наши фамилии и факультеты хотели бы записать-с? — еще более резко и откровенно спросил Вася.
— Помилуйте! Вы меня, вероятно, за кого-нибудь принимаете… — пробормотал господин, ретируясь.
Но долговязый чернявый верзила Коля оказался уже позади господина и стоял так, что тому некуда было деться.
— Нет, что вы! За кого же вас можно принять? Просто у вас такое симпатичное выражение лица, в нем столько интеллекта, что хочется вам на память оставить визитную карточку, — подхватил говорун Митя, тряся белокурым вихром и наступая в свою очередь на усатого. — Но так как мы карточек не заказали, то придётся расписаться самим. — И он, быстро скинув шинель, стал подсучивать рукава тужурки.
— Господа, да чем же я заслужил?.. Ведь я позову на помощь! — неожиданно тоненько выкрикнул господин.
Федя поднялся с места, слегка отстраняя разговорчивого рязанца, и выкрикнул прямо в лицо усатому господину:
— Брысь!..
— Ну-ну, поколеньице! — разведя руками, сказал господин и с поспешностью удалился в дальний конец вагона.
— Зачем вы так на него? — с укором сказала Аночка. — Может быть, он так просто, какой-нибудь господин…
— Вагон плацкартный, места все заняты, как утверждал проводник, а сего господина, вашего подзащитного, пустили в служебное отделение. Когда он садился, я видел — он вместо билета что-то украдкой показал у входа, — пояснил Вася Фотин.
— Господа, я просто решу ваши споры, — сказал Мишка. — Это собственный Колин шпик. Николай сел сначала не в тот вагон, и вот он его ищет. Коля таскает его за собой повсюду. Раз даже извозчика взял и велел ему сесть с собой, а потом заплатить заставил.
Взоры всех обратились к чернявому. Тот сумрачно и застенчиво улыбнулся.
— С Девички и до Сокольников. Наказал на полтинник прохвоста, — признался он.
Уже замелькали подмосковные дачи, и, хотя до прибытия оставалось более часа, публика начала с кряхтением собираться, укладывать и потуже затягивать ремни на постелях, вешать замки на корзинки, дальние пассажиры сговаривались о совместной оплате носильщика… Аночке хотелось скорее, скорее услышать звоночки конок, увидеть многолюдные московские улицы, в серебряных блестках деревья нарядной Садовой, слушать голоса торговцев, окунуться в капустный дух студенческой столовой, с галерки Большого театра взирать на волшебные сказки далекой сцены, жаться в тесноте на скамьях аудиторий, торопливо записывать лекции, а дома забраться на старенькую кушетку, подобрав под себя ноги, и читать, прислонившись спиной к горячим цветным изразцам старинной голландки…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Студенты съезжались из разных городов в Москву после зимних каникул.
Занятия начинались тотчас после крещения, с седьмого января, но в первые дни университетские аудитории ещё наполовину пустовали и в коридорах не было того оживления, как обычно в учебное время. Только неделю спустя, после двенадцатого января, освященного уже целым столетием студенческого праздника Татьянина дня, университетская жизнь закипала по-настоящему.
Однако нельзя сказать, чтобы во время рождественских: каникул студенческая жизнь полностью замирала в столице: Многие из студентов были коренными москвичами, иные же, даже не так дальние, никуда не выезжали, потому ли, что дома, в семье, жизнь была не веселей и не легче, а также из опасения лишиться за время каникул так или иначе налаженного заработка — будь то частный урок, корректура, работа переписчика, церковного певчего, театрального статиста или просто грузчика. Всякий труд годился для студенческой бедноты.
Постоянные места студенческих сборищ — харчевни, кухмистерские, столовые, чайные — жили своей повседневной жизнью в течение всех каникул.
Более состоятельное студенчество не появлялось в этих: местах, где все пропиталось запахом кислых щей и жареного лука и главным достоинством пищи считалось ее количество. Ежедневный обед даже в этих благословенных местах, не блещущих ни чистотою посуды, ни белизною скатертей, был счастливым уделом далеко не всех студентов. Немало было тех, кто съедал одни только щи, пользуясь тем, что с тарелкою щей можно съесть сколько угодно черного хлеба, стоявшего на столах без учёта.
Что ни день, то в одной, то в другой столовке или кухмистерской появлялся старый студент, «муж зело рыжий, бородатый и мудрый, токмо что сединами не убеленный», как говорил о нем Федя Рощин, уверявший Аночку, что студент этот, как точно известно, сверстник Московского университета. Все называли его Иваном Ивановичем, не упоминая фамилии.
На третий день после начала лекций он в студенческой столовке на Бронной во всеуслышание провозгласил, что, по слухам, на завтра готовится какой-то торжественный акт, касающийся студенчества.
— Полагаю, коллеги, что это будет введением еженедельных розог в расписание всех факультетов! — выкрикнул кто-то.
— А может быть, к Татьянину дню разразятся великой милостью — о допущении женщин в университет?
— Идея сия не вяжется с характером его высокопревосходительства господина министра! — раздались другие голоса.
— Аномалия, господа, является частным случаем закономерности. С точки зрения естествознания, его высокопревосходительство… — начал кто-то шутливую лекцию.
— Ти-ше! Ти-ще! Ти-ше! — проскандировала группа собравшихся в том углу, откуда только что сообщил свою новость рыжий «Иван Иванович».
И когда в помещении чуть поутихло, Федя Рощин, будто читая отчет, объявил:
— В Петербургском университете вчера решено бастовать с требованием возвращения уволенных и отмены временных правил. Применена химическая обструкция. В аудиториях брошены колбы с сероводородом. Профессора и штрейкбрехеры после этого покинули аудитории.
— Господа! О таком хамстве, как эти вонючие бомбы, стыдно даже слушать, тем более — говорить! — крикнул, поднявшись из-за стола, явно чахоточный, румяный и тощий блондин в очках, сидевший с друзьями в другом углу.
— Позор хулиганам! — мощным басом возгласил второй студент от того же стола. — Да здравствует наука!
— Идиоты! Спор же идет об исключенных коллегах! Необходима общая солидарность, — поддержал Федю Рощина задорный рязанец Мишка, новый знакомый его по вагону.
— Обожрались марксятины с хреном и публично отрыгивают сероводородом! — перебив рязанца, кричал очкастый блондин. — Забастовка не студенческий метод! Мы живем здесь голодные, чтобы учиться, а не затем, чтобы бастовать. Коллеги, я вас умоляю! Не поддавайтесь политиканам и демагогам! Не нарушайте занятий в Москве! Не навлекайте несчастий на alma mater![9]