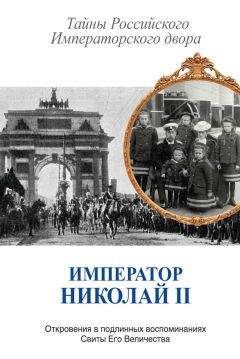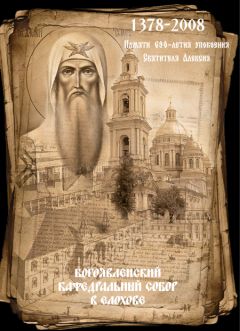Владимир Корнев - Датский король
— Может, я наговорила лишнего сгоряча, но вы. Тимофей, тогда хоть с батюшкой посоветуйтесь. Он вас должен убедить. Спасибо вам за такое внимание и за подарок. Вы первый меня поздравили с Днем Ангела.
Тймоша попятился к выходу, раскланиваясь:
— Благодарствуйте, мадемуазель, выслушали меня, путаника! Буду заглядывать… если позволите-с!.. Счастливо оставаться!
Гость ушел.
Ксения не удержалась: приложилась щекой к шкатулке. Ларчик словно бы еще хранил тепло рук простого русского умельца, вложившего в кусок дерева толику бессмертной души.
И все-таки вне своего внутреннего мира Ксения чувствовала себя неуютно: богема пугала неумеренностью, свободой нравов, аристократический круг — чопорностью, переходящей в высокомерие, и открытой недоброжелательностью. С «народом» она сталкивалась только в церкви да во время редких прогулок по городу. Мир простых людей оказался далек от «сказки» Ксюшиного детства. Ругань, пьянство, стремление урвать лишнюю копейку — всего этого раньше она вроде бы не замечала, а заметив, была удручена. «Господи, Ты всемогущ, — взывало обиженное сердце, — почему так жесток Твой мир? Ты создал его прекрасным, но враг рода человеческого коверкает его, нарушая гармонию на Твоих же глазах!»
Вот почему, узнав, что Катенька Тучкова, может быть, самое близкое для нее «существо» в суровом Петербурге, наперсница детства, навсегда затворилась в Шамордине, по сути одинокая и беззащитная Ксения расстроилась не на шутку. А тут еще близились ответственные выступления за границей — культурно-дипломатическая миссия.
В воскресный день перед отъездом Ксения отправилась в Тихвин к духовному отцу за советом и, как положено, за благословением в дорогу. Духоносный старец встретил, ждал ее приезда: «Знаю, радость моя, знаю. Тяжко в миру-то, да и немощь человеческая ко греху склоняет, но не смущайся нимало: известно тебе, в чем юдоль твоя, вот и исполняй свое служение мирское. А чтобы в обитель удалиться, на то особое призвание нужно». Артистка сбивчиво поведала о предстоящих французских гастролях Императорского балета. Схимник перебирал четки, и за разговором не оставляя внутренней «умной молитвы»: «Много соблазна в Европе. Тяжко тебе там будет, но Господь поможет, ибо сие на добрую славу Державе нашей и миру всему в наущение. Ну езжай с Богом, чадо, коли Государю самому угодно: чего земной Царь желает, то, знать. Царь Небесный велит».
III
В день отъезда в Париж Ксения встала раньше обычного — поезд отбывал в девять утра с Варшавского вокзала. Хотя вещи были собраны еще накануне, ночью Ксения не спала: все вертелось в голове, волновалась, не забыла ли она что-нибудь. Старалась, конечно, уснуть и в то же время боялась, что заснет под самое утро, да и проспит, не дай Бог, а ведь на ней была ответственность и за гордое имя Мариинского театра, и за честь Отечества. После получасовой молитвы и легкого завтрака Ксения добавила к своему дорожному скарбу резной липовый крест, постоянно висевший в ее гримуборной и неизменно сопровождавший ее во всех поездках — один из скромных подарков театрального столяра. Теперь по обычаю следовало бы присесть на дорожку, но в прихожей зазвенел звонок. «Кто-то совсем некстати явился!» — подумала балерина. Оказалось, однако, что весьма кстати: на пороге стоял шофер, весь в коже, в шлеме и перчатках-крагах, с букетом от неизвестного верного почитателя. Это, как всегда, были свежие розы разных сортов и цветов, но неизменные форма и рисунок букета точно подчеркивали, что их посылает одно и то же лицо: плотная от множества пышных бутонов двухцветная полусфера состояла из двух равных частей различного цвета, только в центре каждой половины выделялось по розе из «противоположной» части. Такой простой прием усложнял композицию букета, а может, и нес в себе какой-то дополнительный смысл. Ксения уже привыкла к подобным невинным «сюрпризам»: сначала противилась всяческим знакам внимания, а потом смирилась, решив, что это лучше, чем если бы воздыхатель домогался личного знакомства. Дорогие причуды праздных вертопрахов до сих пор пугали балерину; ни с чем не сравнимое забытье в таинстве танца, восхитительное слияние с музыкой были для нее высшей платой за искусство, а сегодня она испытала знакомую досаду: «Почему всегда инкогнито? Как сказала бы мама, mauvais ton — хоть бы визитную карточку передали с букетом! Вот уж и горничная куда-то исчезла! Наверняка разнесет по всему дому: „Барыне опять розы от постоянного по-клонника-c!“ Сплетни поползут… Если бы можно было спрятаться от любопытных глаз и ушей!» Тем временем шофер ловко подхватил поклажу — небольшой баул и внушительных размеров чемодан, туго перехваченный ремнями и необычайно тяжелый. «Только, ради Бога, осторожнее!» — волновалась Ксения, ведь там покоилось все самое дорогое, что есть у балерины, — профессиональные принадлежности. Она боялась отправлять их багажом, уже наученная горьким опытом, разными неприятностями при пересылке. Бывало, что пропадут или будут испорчены пуанты или затеряются сценические костюмы. Чтобы не остаться перед спектаклем без самого необходимого, балерина давно уже раз и навсегда решила все это в дороге держать при себе, рядом.
«Не извольте беспокоиться, барышня. — я все как пушинку на ладони донесу!» — шутил усатый шофер, в чьей выправке угадывался отставной фельдфебель, а то и офицер гвардии. Блестящий черным лаком автомотор-ландо с откинутым, сложенным гармошкой верхом стоял возле подворотни. Дворник в фартуке с начищенной бляхой почтительно склонился, распахивая ворота для важных господ. Он испытывал явную симпатию к квартирантке, занявшей недавно просторные апартаменты в бельэтаже. «Обходительная дама, и поведения строгого. Поздоровается завсегда, на чаевые не поскупится. Слыхать, Императорского театру актриса известная! Дома-то ее почти не бывает — поздненько возвращается, но насчет кавалеров — ни-ни! — не замечено. Сурьезная особа», — делился он с жильцами.
Авто вскоре уже оказалось на Вознесенском: шофер время от времени сжимал грушу клаксона, и зазевавшиеся извозчики уступали дорогу ненавистному для них железному коню. Тот перелетел через Садовую, промчался мимо длинного фасада Александровского рынка, минуя ряд букинистов, с достоинством стоявших возле книжных развалов под крытой галереей на чугунных столбах. Вот позади осталась Фонтанка, среди облаков проплыли огромные звездно-голубые купола Измайловского собора. Здесь шофер немного притормозил, снял шлем и, крестясь, объяснил барышне:
— Моего полка Собор во имя Живоначальной Троицы. Говорят, немного меньше Исакия! Десять лет службы, мадемуазель, а память — болезнь неизлечимая.
«Почему болезнь?» — искренне удивилась Ксения, которой недавно исполнился двадцать один год. Возле моста через Обводный уже она сама остановила взгляд на иконе Преподобного Серафима в большом памятном киоте. Ксения знала, что на этом месте социалист убил бомбой министра внутренних дел Плеве: «Так чудовищно нелепо! За какую-то безумную и абстрактную идею — „спасенье народа“. От чего и кого спас? Настоящее язычество с кровавыми жертвоприношениями!» Вдруг она осознала, что через какие-то полчаса поезд умчит ее за границу, далеко от Родины, и кто знает — может, и она станет жертвой такой же нелепой выходки заблудшей души. Ксении стало тоскливо, она вдруг подумала, что не знает ни водителя, ни того, кто позаботился о ней, и громко, пытаясь перекричать ревущий мотор, спросила шофера:
— А чей это автомобиль? Кто вас послал? Ведь я не заказывала авто.
Тот загадочно улыбнулся и тоже прокричал в ответ:
— Это мадемуазель, не моя тайна. Я службу свою исполняю. Давайте-ка поторопимся, время не ждет. И не стоит волноваться, ей-Богу.
Прибыв на место, задержались еще у часовни, устроенной в нише вокзальной стены: Ксения перекрестилась и опустила голову, шофер учтиво отвернулся в сторону…
Когда поезд тронулся, балерина уже заняла места в bénéluxe[67], пользуясь как прима правом на покой в отдельном купе, села к окну (где любила проводить большую часть путешествий) и стала всматриваться в лица. По перрону бежали провожающие: дамы в изящных шляпках, мужчины в строгих пальто и котелках. Они махали руками и что-то кричали, но слов не было слышно. Едва доносились звуки бравурного марша, заглушаемые пронзительным гудком паровоза. Столица медленно удалялась, погружаясь в туман. Вдруг сердце девушки тревожно забилось и необычное волнение охватило ее, будто предчувствие чего-то неведомого объяло все ее существо. Но когда перед глазами открылись плывущие поля, природа родная, Ксения вслушалась в мерный перестук колес и успокоилась, почувствовав тихую радость дальнего пути. Она любила это состояние размышления, воспоминаний — лирикофилософское отступление в ее трудном режиме дня и ночи, паузу между жизненными событиями, которые порой шли одно за другим, не давая опомниться, передохнуть или обдумать прожитое. Эта пауза всегда ассоциировалась у нее с любимым адажио из Второго концерта Рахманинова, настраивающим на молчание души, когда все лишнее отходит и суета, как шелуха осыпается, отпадает…