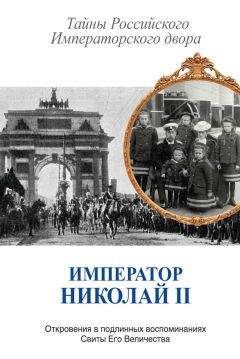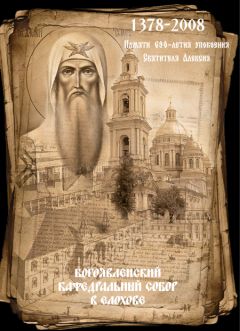Владимир Корнев - Датский король
В столице у Ксении собственным знакомым взяться было неоткуда, а за милостыней к многочисленным родительским, даже к близким родственникам, как и отец, «людям прошлого века», она и не думала обращаться. Нашлись, правда, несколько подруг детства — питомиц закрытых благородных пансионов, но чего, кроме сочувствия, можно было ожидать от неоперившихся, ограниченных в действиях институток? Чем их положение отличалось от того, которое выбрала своевольная Ксюша, — те же чужие люди вокруг, неуютные классы и дортуары с казенными табличками на дверях. Она не любила потом вспоминать время обучения в Хореографическом училище, куда все-таки поступила, не без некоторых ухищрений.
Вступительные испытания пришлось проходить под чужой фамилией (собственная, слишком громкая, могла бы в тот момент только помешать — аристократок неохотно брали в балет). Самое главное, однако, что Ксении не пришлось прибегать к протекции сердобольных тетушек — фрейлин двора. Дальше была пора поистине мученического постижения азов классического танца, годы строгой муштры. Сама Ксения так утешала себя: «И Мария Тальони каждый день делала по 32 battement tendu[62]. Хотела стать мученицей, чему же теперь удивляться? Выходит, в этом Промысл Божий!» И при всех неизбежных терниях на пути к заветной цели она искренне считала себя счастливой.
Иногда Ксении удавалось пообщаться с подругами. Особенно близка она была с Катериной Тучковой, «смолянкой» из графского рода, чье имение находилось по соседству с Дивным — поместьем Ксюшиного отца, домом ее детства. С Катериной они были крестными сестрами, их приняли в один час от одной купели в старой деревенской церкви. Встречаясь в огромном чужом для обеих городе, девушки вместе шли к вечерне. Больше любили нарядную купеческую церковь Воскресения Христова в Апраксином дворе (бывали здесь чаще на Светлой седмице), еще величественную Владимирскую, а порой (в память о бабушке, уже покойной) Ксения приводила задушевную подругу в единоверческий античного вида храм на Николаевской — очень уж по душе была «благородным девицам» строгая древняя служба. После, прогуливаясь по вечерним улицам столицы, они откровенничали, доверяли друг другу свои маленькие тайны, говорили о том, что волновало душу. Тучкова жаловалась на светские премудрости, которым обучали в Смольном: «Неискренность! Чувствую, все это пустое, пустое! Не выйдет из меня придворная дама, Ксеньюшка». Ксения слушала с пониманием — молча, но ей не хотелось ни на что жаловаться: выбрав сцену, она выбрала сладкие слезы творчества.
В труппу Императорского театра ее приняли без препятствий и протекций; видно, и в самом деле сказался талант от Бога. Следивший за успехом юной балерины еще в училище, известный хореограф рискнул дать ей сразу главную партию в балете господина Черепнина «Павильон Армиды» в декорациях модного художника круга «Мира искусства». Балет был одноактный, но стильный, полный средневековой французской романтики. Ксения только и жила репетициями, ожиданием премьеры. Дебют не просто удался — это было блестящее зрелище, многообещающее будущее открылось! Взыскательные столичные балетоманы бисировали, юную танцовщицу вызывали несколько раз. К ногам ее сыпались лучшие букеты от Эйлерса[63]. Все получилось в духе царственной галантности самого балета. Потом одна за другой последовали роли в новых постановках — и снова удачи, восторженные отзывы в прессе. Даже строгий отец, скупой на похвалы, телеграфировал из дома: «Поразила зпт гурия рая тчк побежден тчк не теряй головы воскл зн храни Господь воскл зн». Ксения боялась одного — триумф даст ей повод расслабиться, но словно Ангел-Хранитель оберегал ее от звездного зазнайства, от искушения переоценить свой дар. Она решительно углубилась в черновую работу, видя в этом спасение.
И все же скоро стало понятно: бороться со славой тяжелее, чем кажется поначалу. Почитатели уже узнавали ее на улице, не давали прохода. Тогда-то, вспомнив детство и родное Дивное, Ксения отправилась в Тихвин, в Успенский Богородичный монастырь. На богомолье смиренно просила Чудотворную об укреплении в творческом подвиге. Исповедовалась у преклонных лет иеросхимонаха Михаила. Прозорливый старец долго вызнавал, откуда в «артистке» такая вера, испытывал сугубо, а однажды неожиданно легко благословил: «Вижу — чисты твои помыслы. Театр — Крест твой — и там можно делать добро ближнему, души огрубевшие смягчать, сердца окамененные. Достойно неси Крест сей. Аз, грешный, молиться за тебя буду, и ты, доченька, не забывай сюда дорогу — накрепко запомни! Ну, а там уж посмотрим, как Господь управит…» Все расставила по местам мудрость монашеская: стала Ксения духовным чадом тихвинского старца. С тех пор изо дня в день, так и жила балерина Императорской сцены: репетиции и выступления, до обмороков, поездки в Тихвин в редкие воскресенья, свободные от спектаклей. Даже на чтение времени едва хватало, не говоря уже о делах сердечных.
II
Была, правда, одна трогательная история личного свойства. Как-то поступил на службу в театр молодой человек из мастеровых, но не просто «пролетарий» подмостков, а настоящий виртуоз своего дела. Тимофей — так его звали — был родом с Ярославщины. Его отец, известный в округе краснодеревец, промышлял тем, что делал по городским заказам мебель «под Гамбса»[64], чему научился в рекрутчине, резал иконостасы для сельских приходов. С детства Тимоша наблюдал за этим ремеслом, приноровился мастерить деревянные игрушки всей окрестной детворе, а потом и отцу стал помогать в работе по усадьбам и церквам. Пришло время, и знакомый барин взял его в Петербург, пристроил в хорошую мебельную мастерскую, женил на горничной из порядочного дома. Неплохо зажили молодые: сначала сняли угол, потом квартирку, в срок родился наследник. На досуге Тимофей все иконки вырезал, да так тонко и искусно, что просто загляденье, а иных подробностей без лупы и не рассмотришь. Так бы и шло все ладно, да неожиданные обстоятельства переменили всю жизнь столяра-искусника. Попав однажды в театр, он был просто околдован увиденным. Так его пробрало, что вскоре решил: «Чего бы мне это ни стоило, устроюсь сюда на службу!» Со своей безумной идеей бросился в ноги к помещику-благодетелю, умолял, чтобы тот посодействовал определиться «хоть на подхват, но непременно в театр». Барин назвал его затею дурью, а самого парня, соответственно, дурнем и бабой, но по доброте душевной использовал свои знакомства, дал нужную рекомендацию, и стал-таки молодой краснодеревец рабочим сцены в самом Мариинском театре.
Сначала со всей закулисной артелью поднимал огромный занавес, монтировал громоздкие декорации — дворцы и замки, зато мог теперь смотреть любой спектакль, любую репетицию. Скоро все вокруг заметили, что парень — дока по столярной части: не то что колченогий стул починить, но и ветхое вольтеровское кресло, и даже буфет из старинного гарнитура может из руин поднять. Назначили тогда Тимофея старшим по реставрации бутафории, отдали ему во владение небольшое помещение под мастерскую и пару плотников в подчинение. В общем, выбился деревенский парень в «рабочую интеллигенцию». И пошло все вроде бы гладко: жалованье повысили, сам господин директор при встрече нет-нет да и поприветствует, но Тимофея новая служба захватила не на шутку: с утра до ночи пропадал он в театре, домой не являлся по нескольку дней. В доме начался разлад, жена была уверена, что он завел дамочку на стороне, встречала его со скалкой, а отец семейства насмотрелся к тому времени на свободные нравы богемы и совсем одурел: открыто заявил жене, что выбирает «жертвенное служение искусству и социальную независимость». Жена не била посуды, решила, что мужик повредился в уме: храня гордое молчание, собрала кое-какой скарб, взяла сына-малолетку и уехала в деревню к родным. С тех пор Тимофей стал исправно отсылать семье большую часть заработка, а сам стоически трудился «на ниве искусства».
Ксения иногда замечала молодого человека, выделявшегося среди других рабочих сцены своим опрятным видом: всегда выглаженная шелковая косоворотка чиста, сапоги блестят от ваксы. Чувствовалась в нем природная аккуратность. И еще — он никогда не сидел без дела, возился с декорациями, что-то непрерывно чинил, строгал, что-то мастерил, часто у всех на виду. Весь в делах, Тимофей выделил Ксению из балетной труппы не сразу, но с некоторых пор она обратила внимание, что «столяр» стал едва заметно склонять голову при встрече с ней и смешно краснел, замечая любопытный взгляд артистки. Да и после сценических репетиций, когда балерина в одиночестве методично и подолгу отрабатывала сложные pas, он не раз как бы невзначай оказывался в глубине кулис. Все это было тем более странно, что его Ксении, естественно, никто и не думал представлять. Однажды на Пасху (повод придавал смелости) рабочий поздравил ее со Светлым Христовым воскресением и протянул ей расписное деревянное яичко: