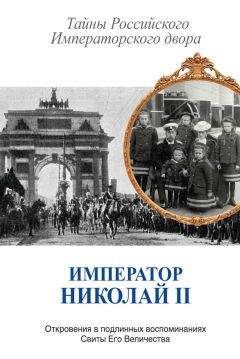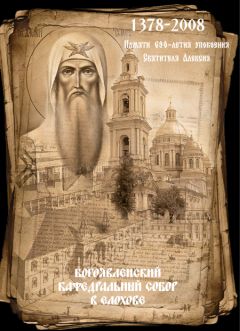Владимир Корнев - Датский король
Скульптор в который раз поразился:
— И как это в обычном, казалось бы, университетском профессоре, полуслепом буквоеде и зануде, умещалось сразу столько талантов! И почему все гении так страшно заканчивают жизнь?
Арсений ужаснулся в душе: кажется, он знал ответ на звонцовские вопросы, хотя и не желал в него верить. Он только произнес как заклинание:
— Не все гении — каждый сам волен выбирать!
Звонцов хмыкнул, так ничего и не поняв.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Дама с колье
I
Когда юная жрица Терпсихоры, балерина Императорского Мариинского театра Ксения Светозарова узнала, что графиня Екатерина Тучкова, единственная наследница богатейшего русского рода, приняла монашеский постриг в Шамординской женской Казанской пустыни[57], ее охватили самые противоречивые чувства — и огорчение, что внезапно лишилась лучшей подруги, и обида, что та ни словом ей не обмолвилась, и радость, что, вот, та смогла, решилась на такой нелегкий шаг — отказ от мира, надежда, что не забудет в своей новой монастырской жизни поминать ее, Ксению, в молитвах, которые, конечно, доходчивее ко Господу, чем немощные молитвы, приносимые в суете и попечениях о мирском и преходящем, и страх за подругу — вдруг не выдержит, покинет монастырь, вернется в мир, тем сломав свою судьбу? Променять комфортную петербургскую жизнь вблизи Императорского двора, можно сказать, в самой гуще новых культурных веяний цивилизации на жертвенное «растворение» в глуши — это Ксению как раз не удивляло: сколько раз и она чувствовала эту тягу прочь, желание всю свою жизнь принести к стопам Творца. Но иной раз, видя матерей с детками, ей хотелось вложить свою душу в воспитание такой же нежной неиспорченной души. «Оставить лицемерный, полный интриг свет — вот в чем проявляется сила духа! Но добровольно лишить себя женского счастья, заповеданного Самим Господом, — супружества и материнства, нет, я бы не смогла … А путь назад для монаха страшнее, чем прежняя, обычная жизнь в миру; он вообще недопустим».
Размышляя о подруге, Ксения, конечно, задумывалась и о своей судьбе: в очередной раз думала о своем давнем выборе — о сцене, карьере артистки балета. Когда-то, еще в детстве, она, воспитанная в семье строгих православных устоев, в патриархальной традиции, под крылом истовой единоверки бабушки и вполне религиозных родителей, тайком мечтала об иноческом житии. Маленькая Ксюша, зачарованная огоньками разноцветных лампадок перед иконами в моленной просторного, еще екатерининских времен усадебного дома, привыкшая к семейному чтению древних «Миней» митрополита Макария[58] в гостиной после вечернего чая за длинным, мореного дуба, столом предков; девочка, хранившая среди кукол и прочих своих «драгоценностей» расписные пасхальные яички, «Псалтирь» и молитвослов с ладошку размером в шитом бисером чехольчике — священные дары родных и близких, почему-то непременно видела себя в будущем мученицей за веру. Взрослые относились к этому с доброй иронией. На первой странице сокровенного девичьего альбома красовался непреходящий христианский девиз, мудрый в своей простоте: «Вера, Надежда, Любовь». У Ксюши все было так же, как и у других девочек из родовитых и самых простых русских семей, маленьких дворянок, поповен, мещанок, как было в больших городах и малых весях….
Но прошло детство, наступило дышащее романтическими мечтами отрочество, и, попав однажды в балет (это была «Спящая красавица» в постановке Петипа на петербургской сцене), Ксения как-то сразу вообразила себя Авророй и твердила с тех пор повсюду, что ничего нет прекраснее воздушного парения среди сказочных картин. Словом, в тот самый вечер Ксюша полудетским своим существом поняла — взрослая ее жизнь будет связана с этими почти бесплотными, но прекрасными образами, именно с Императорским балетом. Какая девочка, особенно в возрасте, когда так хочется нравиться всем и вся, не мечтает, чтобы на ее танец из золоченой, сверкающей ложи хоть иногда взирало само Августейшее семейство, выше которого только святые и Господь? Тогда же в своих утренних и вечерних молитвах, одержимая мечтой, Ксюша стала просить Ангела-Хранителя, Божью Матерь «Скоропослушницу», доброго седобородого старца — Николу Угодника об утверждении в намерении стать балериной. Она уже знала: твердая Вера — залог исполнения желания. Жертвенные порывы детства теперь устремились в другое русло, а сердце Ксении по-прежнему жарко горело.
В те сокровенные минуты, когда никто не мог ее видеть, она то и дело крутилась на цыпочках, что-то сама себе напевая вместо аккомпанемента, повторяла и другие запомнившиеся балетные движения и целые фигуры, а если удавалось еще раздобыть какой-нибудь шарф, шаль матери из легкого газа или воздушного шелка, это доставляло девочке особенную радость.
Родители приняли решение единственной дочери «в штыки». Особенно возмущался отец, генерал, в молодости сражавшийся добровольцем в Черногории и Сербии за свободу братьев-славян под началом храброго Черняева. «Что за каприз такой легкомысленный?.. — возмущался он. — Возмечтать о дрыгоножестве! Знакомы мне, mon enfant[59], эти „гурии рая, девы, подобные ветру“[60]. Ох уж эта богема. Думаешь, я человек прошлого века? Ничего не изменилось с тех пор, по крайней мере к лучшему! Порядочная девушка должна задумываться об одной „карьере“ — как стать достойной матерью семейства. Артисты — они ведь безобразно живут, у них… сплошь гражданские браки!». Отец краснел, на лбу набухали вены, а подвижные кончики усов праведно топорщились: «Нет и нет — запрещаю!» «C’est mauvais ton»[61], — вынужденно подтверждала матушка, в душе же ей был близок восторг дочери. А дочь не унималась, говорила, что такова, видно, ее судьба, что она чувствует призвание к танцу и ни о чем больше не хочет слышать. Сказывался отцовский характер. Наконец, вычитала где-то в житиях притчу о скоморохе, который, не ведая молитв, в религиозном порыве прошелся колесом перед образом Богоматери, и Пречистая приняла «моление» его души. Домашних такой довод поразил — из Священного Предания, но все же не разубедил. Своенравной дочери пришлось бежать в Петербург без родительского согласия и существовать на те скромные средства, которые тайно иногда пересылала ей мать.
В столице у Ксении собственным знакомым взяться было неоткуда, а за милостыней к многочисленным родительским, даже к близким родственникам, как и отец, «людям прошлого века», она и не думала обращаться. Нашлись, правда, несколько подруг детства — питомиц закрытых благородных пансионов, но чего, кроме сочувствия, можно было ожидать от неоперившихся, ограниченных в действиях институток? Чем их положение отличалось от того, которое выбрала своевольная Ксюша, — те же чужие люди вокруг, неуютные классы и дортуары с казенными табличками на дверях. Она не любила потом вспоминать время обучения в Хореографическом училище, куда все-таки поступила, не без некоторых ухищрений.
Вступительные испытания пришлось проходить под чужой фамилией (собственная, слишком громкая, могла бы в тот момент только помешать — аристократок неохотно брали в балет). Самое главное, однако, что Ксении не пришлось прибегать к протекции сердобольных тетушек — фрейлин двора. Дальше была пора поистине мученического постижения азов классического танца, годы строгой муштры. Сама Ксения так утешала себя: «И Мария Тальони каждый день делала по 32 battement tendu[62]. Хотела стать мученицей, чему же теперь удивляться? Выходит, в этом Промысл Божий!» И при всех неизбежных терниях на пути к заветной цели она искренне считала себя счастливой.
Иногда Ксении удавалось пообщаться с подругами. Особенно близка она была с Катериной Тучковой, «смолянкой» из графского рода, чье имение находилось по соседству с Дивным — поместьем Ксюшиного отца, домом ее детства. С Катериной они были крестными сестрами, их приняли в один час от одной купели в старой деревенской церкви. Встречаясь в огромном чужом для обеих городе, девушки вместе шли к вечерне. Больше любили нарядную купеческую церковь Воскресения Христова в Апраксином дворе (бывали здесь чаще на Светлой седмице), еще величественную Владимирскую, а порой (в память о бабушке, уже покойной) Ксения приводила задушевную подругу в единоверческий античного вида храм на Николаевской — очень уж по душе была «благородным девицам» строгая древняя служба. После, прогуливаясь по вечерним улицам столицы, они откровенничали, доверяли друг другу свои маленькие тайны, говорили о том, что волновало душу. Тучкова жаловалась на светские премудрости, которым обучали в Смольном: «Неискренность! Чувствую, все это пустое, пустое! Не выйдет из меня придворная дама, Ксеньюшка». Ксения слушала с пониманием — молча, но ей не хотелось ни на что жаловаться: выбрав сцену, она выбрала сладкие слезы творчества.