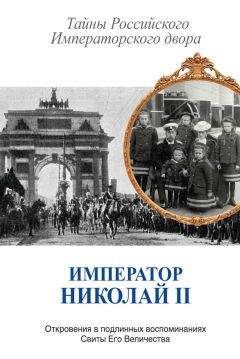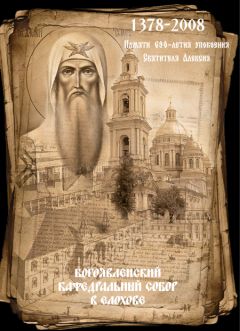Владимир Корнев - Датский король
По очереди проследовали в раме окна остзейские и польские губернии, уже не совсем Россия, но еще не настоящая Европа, с грязноватыми местечковыми станциями и вокзальными вывесками, не везде даже двуязычными. Потом была педантичная германская таможня, офицеры в остроконечных медных касках; один за другим сменились вылизанные немецкие городки, долго проплывал в копоти и смоге Берлин, темнели в поднебесье высоченные башни Кельнского собора, порадовали глаз сочной зеленью бельгийские поля, плавно перешедшие во французские. Состав прибыл на Gare de Nord[68], где, переводя дух, застыл под высоким стеклянным навесом, ажурной конструкцией в стиле L’Art Nouveau[69].
Балетная труппа Мариинского театра готовилась представить французам три большие постановки: уже классические «Лебединое» и «Спящую» и премьеру, новаторский, полный славянского скоморошества и восточной пестроты балет Стравинского «Весна священная» с блистательным Нижинским. С 1908 года Париж буквально потрясали Русские сезоны: сначала Шаляпин «озвучил» Мусорского, затем Фокин «по-русски» «преподнес» Шопена в хореографии, показал невиданные «Половецкие пляски» Бородина, художники-мирискусники буквально покорили искушенных французских эстетов. Варившаяся в своем соку Европа открыла для себя terra incognita — самобытнейшую, веками настоянную русскую культуру. Теперь был май 1913 года. Новый президент республики Анри Пуанкаре, большой ценитель изящных искусств, почитатель Чайковского, обратился с личной просьбой к Императору Всероссийскому об очередных гастролях Петербургского балета. Государь видел в распространении русской культуры предмет особой заботы и дело государственной важности. «Как знать, возможно, именно искусство спасет мир от губительной войны — ведь еще Достоевский где-то писал об умиротворяющем воздействии красоты на умы». Вскоре начальство Императорского Мариинского театра было высочайше уведомлено о предстоящих гастролях. Подготовка прошла спешно, но за репутацию театра можно было не краснеть, благо уже имелся обширный опыт выступлений за границей. Итак, русский балет отправился в Париж за очередным триумфом.
Французский стиль модерн.
IV
С Мариинской труппой в столице республиканской Франции обошлись по-королевски. Гостям отвели для полного комфорта номера в одном из фешенебельных старинных отелей на улице Фобур-Сент-Оноре, совсем недалеко и от русского посольства, и от Елисейского дворца. Париж Ксения наблюдала проездом: из окна гостиницы или с кабриолета. Ритм жизни здешних улиц отличался от петербургского спешкой прохожих, их довольно однообразным выхолощенным «европейским» внешним видом, однако в духе последних веяний моды. Всюду сновали газетные разносчики и рекламные агенты. Бросалось в глаза множество автомоторов (в Петербурге, среди извозчичье-трамвайной массы, они были заметнее, а здесь уже не вызывали интереса у обывателя). Обилие электрической рекламы, то тут, то там мигающих лампочек, утомляло. Поражал выбор всевозможных развлекательных, а точнее, «завлекательных» заведений: ресторанов и ресторанчиков, с канканом и без: шикарных казино, миниатюрных бистро было просто не счесть, и еще целые «кварталы заведений сомнительной репутации» для «одиноких» мужчин. Архитектурой французская столица напоминала русскую, но здесь не было заметно классической стройности, цельности, свойственной Петербургу. Чувствовалась некоторая роскошная небрежность. В центре было явно больше высоких зданий, всюду мансарды и какие-то надстройки. Ксения слышала, что именно в них селится местная богема. Ультрасовременные строения из железа и бетона казались более вычурными, чем в России, даже крикливыми. Дворцы знати постройки прошлых веков тоже выглядели излишне помпезно, лепнина перегружала их. Вообще во всем чувствовался какой-то перебор, всего было «слишком», а самым нелепым сооружением показалась русской ценительнице прекрасного «железная дама» инженера Эйфеля. Ксения была наслышана о том, что это шедевр технической мысли, притом весьма романтичный, даже элегантный, но собственное впечатление надежнее чужого. Знакомые парижане и те не стыдились называть эту достопримечательность уже прошедшего века «канделябром» и «этажеркой», а один из знаменитых литераторов рассказал «воздушной Деве Севера», что перед постройкой трехсотметровой башни сами Гуно, Мопассан и еще некоторые «великие» подали протест министру торговли, чьим любимцем был Эйфель, заявив, что Париж окажется «обесчещенным», но сумасшедший проект был воплощен в жизнь согласно практической логике. «Увы, мадемуазель, — сказал проходящий француз, заметив пристальное внимание Ксении к Эйфелевой „красотке“, разведя руками. — Теперь коммерция превыше всего, а это воздушное чучело привлекает туристов со всего света». Ксения улыбнулась в ответ — дескать, не все так печально, Париж остался общепризнанной столицей искусства, а подумала другое: «Может, это и есть вавилонский столп наших дней? И сам республиканский Париж уж очень похож на новый Вавилон…» Впрочем, она нашла, что здешние предместья с их старинными виллами, утопающими в зелени, и воркованьем горлиц очень милы, да и «коммерческий» дух времени, казалось, не коснулся их. А парижские сады — Jardin du Luxembourg[70] и еще более Bois de Bologne[71] — Ксению просто очаровали. Сюда, под тень каштанов и акаций, труппа пару раз выезжала на пикник. Но это было в редчайшие дни, свободные от репетиций. Возможно, и здесь девушка не чувствовала бы себя столь уютно, знай она, что именно в Булонском лесу некий революционер-поляк дважды стрелял в Царя-Освободителя.
Парижский муниципалитет решил совместить гастроли русского балета с открытием новой сцены только что законченного постройкой театра на авеню Монтень. Ксения была занята в балетах Чайковского — принцесса Аврора, Одетта и Одиллия были ее любимыми партиями. «Спящая красавица» пробуждала у французов не только присущее им чувство изящного, но и ностальгический патриотизм. Они увидели Францию-сказку и как завороженные наблюдали за придворными церемониями Версаля в духе Перро и Ватто. Пространство зала словно бы наполнил аромат галантной эпохи, пышных париков и кринолинов, ушедший безвозвратно вместе с веком Короля-Солнца.
Зал то и дело разражался овациями. Кто-то из старых роялистов, не лишенный чувства юмора, выкрикнул после первого акта: «Vive La Belle France! Vive le Roi Louis XIV!»[72]. Но публика была тронута не только сюжетом: все были очарованы русской Авророй, неизвестной юной примой, творящей на подмостках чудо танца.
И неискушенному зрителю было ясно: эта девушка, будто бы вылепленная из севрского фарфора, являет подлинное savoir vivre[73], переданное языком классического балета, не требующим перевода. Сцена казалась настоящим райским цветником: столько здесь было лилий, целых гирлянд нежнейших соцветий в декорациях, в руках у юношей-танцоров, а под занавес цветы посыпались из зала. Их целыми корзинами уносили за кулисы, но ворох благоухающих букетов, перевязанных атласными лентами, часто трехцветными — в цвет французского и российского флагов — все рос у ног артистов. Ксения даже устала от выходов на бис и реверансов. Она посылала в зал благодарные поклоны, замечая в толпе полные обожания мужские взгляды.
Очередной розовый букет от неизвестного балерина узнала по рисунку и необыкновенно большим размерам: «Неужели господин „Неизвестный“ и в Париж приехал? Ведь это неблизкий путь! И опять же: дорога, отели, рестораны, — богач, наверное…».
А по поводу дорогих букетов ей иногда приходила в голову отчаянная благотворительная идея: после очередного спектакля все цветы, пока не завяли, тайком продать каким-нибудь уличным торговцам, чтобы вырученные деньги пожертвовать нуждающимся ближним или просто раздать нищим на паперти. Туг же эта мысль начинала казаться Ксении полубезумной и даже фарисейской, к тому же такой поступок нарушил бы все мыслимые правила артистической этики: как можно торговать воплощенной благодарностью публики за твой талант? Глядя на цветы, она мечтала: «Как было бы хорошо, если бы когда-нибудь создали такой эликсир, чтобы розы не умирали!» И вдохновленная Ксения относила эти живые дары в ближайший храм, наряжая его земной красотой, возводящей людские сердца и умы от дольнего мира к горнему. «Ведь этой красотой любовался и Сам Спаситель, Сам Творец „кринов сельных“! — думалось девушке. — Разве они менее нарядны, чем те, с которыми сравнивал свою возлюбленную премудрый царь Соломон, менее нарядны „цвета полного“ и „крина дольного“?»[74]
V
Сегодня был особый день. Сегодня впервые в Париже Ксения должна была исполнить Одетту в «Лебедином озере». За три часа до спектакля она уже была в своей гримерной, расправила головной убор Белого Лебедя, поставила на подобающее место иконочки, в очередной раз разложила все гримерные принадлежности на столике и села перед зеркалом. У нее еще оставалось время подумать о предстоящем спектакле, войти в образ. Внезапно дверь распахнулась, и в гримерку буквально ворвался импресарио. Лицо его было необычайно бледным, веки подергивались, руки тряслись. Он молча осел в ближайшее кресло, закрыл лицо руками и сидел так несколько минут, тянувшихся бесконечно долго. Потом посмотрел на Ксению: в глазах взрослого, солидного мужчины блестели слезы. Опомнившись, импресарио вскочил и пробормотал: