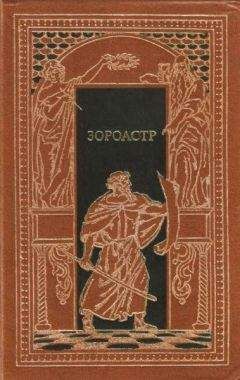Владислав Бахревский - Сполошный колокол
Пани была внимательной сиделкой, быстро и ловко перевязывала рану.
Донат притворился спящим, дышал ровно, чуть приоткрыл рот, да он и вправду, наверное, вздремнул… И вдруг увидал, по щекам Пани катятся слезы.
— Я спасу тебя от него! — сказал громко Донат. Пани вскрикнула, вскочила, подбежала к дверям, метнулась к нему:
— Молчи! Молчи! Никогда не говори об этом. Он всеведущ и всесилен.
«Пойти к Гавриле — и быть всесильному на плахе», — усмехнулся про себя Донат. И тут же подумал о том, что никуда он не пойдет: рядом с головой Гулыги ляжет на ту же плаху голова Пани.
— Мой мальчик, — шептала она, стоя на коленях у постели, — мне так страшно! Наш дом — это клетка. У меня подрезаны оба крыла. Я жду беды. Я боюсь.
— Я убью Гулыгу!
— Нет, нет! — Пани закрыла ладонью рот Донату. — Молчи! Я даже свою служанку боюсь. Мне иной раз кажется, что это не я нашла ее, а она меня. Мне кажется, что она только притворяется немой.
Пани резко поднялась на ноги, подняла руки к вискам, сдавила их.
— Что я болтаю?! Я, кажется, больна? — Она посмотрела Донату в глаза. — Ты должен все забыть… Ты умный мальчик. Надо уметь пережидать. В конце концов все оборачивается хорошей стороной.
Донат чуть было не вскочил: Пани говорила его словами.
— Я все забыл, Пани! — Он тоже смотрел ей в глаза. — Я умею ждать, моя Пани!
— Меня зовут Еленой, Донат.
На Москве
Из Москвы к восставшему Новгороду шел небольшой, но сильный отряд князя Ивана Никитича Хованского. Слухи, дошедшие до псковичей, были верны.
В Москве теперь собирали большой отряд. Воеводами государь поставил князей Трубецкого и Пронского, да вот беда — воеводствовать пока не над кем было. Охочих людей набирали с трудом.
Тем временем псковских челобитчиков — Прохора-мясника, приехавшего по найму вместо богатого человека Степана Шепелина, да Сысоя, заменившего отца, — волочили с допроса на допрос по московским приказам.
Сысой открестился от Прохора и его челобитных: о хлебе, Емельянове и Нумменсе. Я, мол, привез подарки для новорожденной царевны Евдокии, к псковскому бунту непричастен, никаких челобитных не подписывал, и дела мне до них нет.
Ну а в приказе по-своему рассудили. Прохор-мясник хоть и приехал по найму, а за Псков стоит горой. «Почему гостя Емельянова ограбили?» — «Заслужил того». — «Почему у Нумменса казну отобрали?» — «Так то русские денежки, хребтом нажиты, не к чему их шведскому ворогу отдавать».
Такого к царю допустить опасно. Такой и перед царем не сробеет. И решено было погубить Прохора. Подкинули ему зернометные кости и гадательную книгу и обвинили в чародействе. Прохор даже на дыбе говорил: кости и книга — не его. Вины за собой не признал, но путь ему уже был назначен: тюрьма, а из тюрьмы — в Сибирь. Вот оно как наниматься с челобитными ездить.
Пред царские очи допущен был хитрый Сысой.
И ему худо бы пришлось. Государь подарков для царевны не принял, челобитные назвал бунтовательными, да нужен был человек, которого бы во Пскове за своего почитали, отвезти строгий наказ городу: отпустить Никифора Сергеевича Собакина и прекратить гиль. Стоял перед государем Сысойка ни жив ни мертв. Из Москвы уезжал — крестился. Только и его грамоту во Пскове назвали воровской.
Новый староста
Гаврила Демидов в исподнем, белая рубаха, белые порты, засучив рукава повыше локтя, стоял, облокотясь на рогач, и, улыбаясь, глядел с удивлением на чудо, творимое в печи огнем. На семицветном жару рождались хлебы. Гаврила ждал то единственное, ему известное мгновение, когда огонь сотворит душистое и румяное дитя, чтобы в другое мгновение, коль прозеваешь, спалить дотла свой труд, свое искусство.
Каждый раз, берясь за дело, хлебник придерживал дыхание, пригибался малость, чтоб ненароком не прогневить невидимые силы. Он ждал разгадки — бессмысленны деяния огня или в них есть недоступный человеку разум?
Сверчки распелись.
Пелагея, матушка Гаврилы, помолившись перед иконами, пришла благословить сына, чтоб новый день был благодатен для него, чтоб доброе к нему лепилось и не лепилось злое.
Засмотрелась на парня.
Была любовь, потом в пеленках шевелился тощенький, всегда замаранный детеныш, пищал, как мышь, едва живой. И вот стоит красавец. Богатырь. А улыбается, как сосунок во сне.
— Балбес, балбес! — в сердцах сказала Пелагея да чуть не сплюнула.
— Что, матушка, случилось?
— А то! Послушалась тебя, не обженила, вот теперь и плачусь день и ночь.
— Прости, матушка! Но чем же я тебя прогневил?
— Бессовестный! Будто сам не знаешь.
— Матушка, ведь не сам же я себя старостой всегородним сделал, выкликнули меня.
— Они горазды кликать! А как до расправы дело дойдет, тебя же, как овечку, и заложат ради собственного спасения.
— Не ругайся, матушка! Чему быть, того не миновать. Я так думаю: хорошо, что меня выбрали в старосты. Я спокойный. Я терпеть умею и прощать. Попал бы на мое место Прошка Коза — сколько бы сирот осталось, кровушка бы рекой потекла. А я зря кровь проливать не стану. В том тебе клянусь, матушка. А ты за меня молись!
Потянул ноздрями воздух, бросился к печи: хлебы подгорели.
Гаврила Демидов пришел во Всегороднюю избу последним. Дворяне глядели на него недобро: ишь властелин, ждать себя заставляет. Хам, червяк, а без его слова ныне во Пскове никакого дела решить невозможно.
Гаврила поклонился собравшимся, прошел на свое место, сел. Все молчали. Молчал и Гаврила. Чем дольше, тем гнетущее тишина. Гаврила спокойно оглядел собрание.
На первой лавке, перед старостами, сидели дворяне, купцы, богатые домовладельцы — лучшие люди, выбранные еще до мятежа: Михайло Русинов, Иван Устинов, Анкидин Гдовленин, Алексей Балаксин, Яков Серебряник, Иван Мясков. Эти приходят в избу каждый день и сидят молча. На другой лавке, подальше, троицкий протопоп Афанасий с ключарем Дионисием и поп Яков, что служит в Георгиевской церкви с Болота. Первые двое приходят поневоле, а поп Яков молчать не умеет. С попами рядом сидят стрельцы Неволька Сидоров, Парамошка Лукьянов, Федька Снырка, Ивашка Сахарной, Ивашка Хворый. На последней лавке те, кто избран недавно: Томила Слепой, Никита Леванисов, братья-близнецы серебряники Макаровы, стрельцы Никита Сорокоум, Прошка Коза, портной Степанко, Демид Воинов и Ульян Фадеев.
Гаврила покосился на своего соседа, другого старосту, Михаила Мошницына, спросил его:
— Молчим? Видно, дел нет?
— Слава Богу, тихо ныне в городе, — ответил Мошницын.
— Тихо оттого, что скоро быть большому шуму.
Собрание встрепенулось.
— Как примем князя Ивана Никитича Хованского?
— Пушками! — сказал Прокофий Коза.
Попы перекрестились, но поп Яков, перекрестившись, сказал:
— Право слово! Мы в своих челобитных просим мира и честного суда над нами, грешными, а коли нам в ответ война — так быть войне.
Попы перекрестились, и поп Яков тоже.
— Как же это мы будем воевать, когда свинец и порох под замком? — спросил Никита Сорокоум.
— У воеводы Василия Петровича Львова надо попросить, — ответил ему Гаврила.
Первый ряд зашумел:
— Противиться воле государя?
— Войну заводить?
Гаврила улыбнулся:
— Ну, вот и наши молчуны заговорили.
Вскочил Томила Слепой:
— Мы государю дурна не хотим, но коли бояре перехватывают наши челобитные, коли они хотят продать Псков и Новгород иноземцам, нужно поднять всю Русь! Все города! Нужно спасать царя и царство от нашествия! Нужно дать волю городам, чтоб люди простые не страдали от воровства воевод. Встретим Хованского пушками!
Опять поднялся Никита Сорокоум:
— В осаде сидеть — не простое дело. Запасы у воеводы, у торговых людей да у дворян, а маломочные и теперь уже голодают.
— Стрельцы готовы постоять за Псков! — Прокофий Коза вспрыгнул от возбуждения на лавку. — Но стрельцам тоже есть нужно. Не каменные. О чем старосты думают? Нам при Собакине жалованья не давали и при Львове тоже…
Встал и Гаврила Демидов:
— Столько дел, а вы молчали. Спрашиваю: пустим Хованского или прогоним?
— Пустим! — закричала первая лавка.
— Нет! — ответила последняя.
В середине помалкивали. Один поп Яков ревел:
— Пушками его!
— Коль согласия полного меж нами не видно, спросим мирской сход, — сказал Гаврила и поглядел на Мошницына.
Тот кивнул, соглашаясь, и дал знак подьячему. Над Псковом зазвенела медь набата, сполошный колокол заголосил.
Воевода Василий Петрович Львов, не дожидаясь, пока вытащат из Съезжей избы, вышел к псковичам навстречу.
— Что приключилось? Почему набат?
Отвечал ему Никита Сорокоум:
— Воевода, окольничий, князь Василий Петрович, мы пришли к тебе просить, чтобы ты отпустил нам свинец и порох!