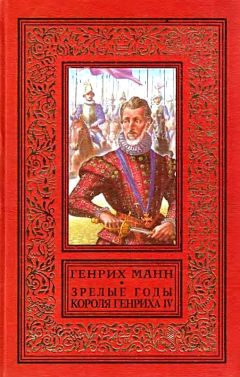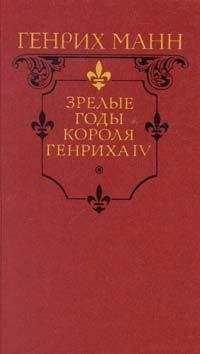Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
— По этой причине я и согласился быть твоим канцлером. Отчего ты этого не хочешь понять?
Генрих морщился и говорил так, точно сам с собой толковал, оставшись наедине:
— Ты-то умён. Покорности в тебе ни на грош. И сопротивление твоё не тупое, уж нет. Я это вижу, ведь я тебя знаю давно. Только не по-моему ты как-то умён. Какая фантазия: изрывать берега, утыкать новыми скалами море. Это же чепуха. Ты и понимаешь меня, а как будто не хочешь понять, как будто и помогаешь и не хочешь или не можешь помочь.
Философ стал серьёзен и негромко признался, сознавая вину за собой:
— Если приходится помогать против совести, действительно помочь не могу. Тебе, я надеюсь, покой души тоже дороже всего.
Глаза Генриха оплывали и точно слепли всё больше от блеска и жара огня, белки краснели от прихлынувшей крови, ресницы точно сами пылали огнём, голос звенел сумрачно и высоко:
— А я и требую знать, что тебе говорит твоя совесть, как будто перед тобой не король. Ведь ты учителем был для меня, а потом мы стали друзьями. Так рассуди, кто же мне скажет правду, если не ты?
Очень хотелось дружески утешить того, кто истинно страдал, давно страдал у него на глазах. Сострадание утешит друга, но может выглядеть в мнении монарха согласием и поддержкой давнего плана, с которым, как философ, он согласиться не мог и который, как политик, права не имел поддержать. Повторил осторожно и мягко:
— Ну, разумеется, как не понять, что тебе тяжко со старой, нелюбимой женой. Всякому, окажись он на твоём месте, было бы скверно.
Генрих медленно отвалился назад, опираясь на резные широкие ручки, вытягивая толстые ноги к огню, и, взглянув на него неопределённо мерцающим взглядом, чуть ли не радостно подхватил:
— Вот видишь, такие вещи ты всё-таки способен понять!
Уже раскаиваясь, что дал волю добрым, искренним чувствам, совсем не уместным в том некрасивом и запутанном деле, смысл которого давно угадал и которое для своего разрешения требовало холодного, трезвого разума, а не разнеженных чувств, склонил голову, укрывая глаза, чтобы не быть неправильно понятым, и неуверенно протянул, желая выиграть время:
— Как не понять? Такие вещи понимает каждый мужчина.
Генрих оживился, настойчиво повторил:
— Да-да, как это ужасно! Как мне тяжело! Так тяжело! Невыносимо, постыло мне всё! Просто нет слов, как мне тяжело!
Мор неохотно кивнул головой:
— Это, разумеется, так.
Самодержец торопливо, с надеждой спросил, неуклюже повернувшись, нависая, как медведь:
— И что из этого может последовать? Что из этого должно последовать, а?
Он долго молчал, разглядывая сначала толстые ноги, близко протянутые к огню, сверкающие пряжки на ремнях башмаков, когда на них падал свет, тускневшие, когда оказывались в густой, почти чёрной тени, скрывавшей их от весёлого хищного пламени, потом вдруг посмотрел прямо в полуприкрытые стальные глаза короля, настороженно ждавшие, торопившие, ярко блестевшие сквозь золотистую щетину ресниц, и видел колебание на дне затаившихся глаз, в этом неспокойном, придирчивом ожидании, точно вынуждавшем его согласиться.
Да, от советника требовали разумно и справедливо решить судьбу неумолимо старевшего Гарри Тюдора, которого, согласно древнему закону природы, вдруг потянуло к молодым, свежим женщинам, к страстным объятиям и к горячим, безумным ночам, чтобы всё ещё ощущать себя сильным и молодым, а решалась судьба государства, судьба всего мира, судьба убеждений и вер. Из него искусно и терпеливо вымогали одно простое, короткое слово, но это слово было невозможным, немыслимым именно с точки зрения рассудка и справедливости, а перечить королям бесполезно, даже если они философов называют своими друзьями. Если б об одних только молодых, страстных женщинах была речь! У Генриха их было достаточно. Королева напрасно укоряла мужа, что он не способен зачать. Генрих бесился и проверял свои мужские способности чуть не с каждой смазливой девчонкой, появившейся при дворе. И проверил. И теперь хотел жениться, чтобы у него был наследник короны, чтобы продолжить династию, ещё молодую, не успевшую укорениться ни на континенте, ни в Англии. Его интрижки никому не вредят, разве только жене, а брак его поссорит со всеми, с подданными, с королями, с церковью прежде всего.
Вновь раздражаясь, сердясь на себя, отводя виновато глаза, потому что перед ним страдал человек и король, приглушённо, нехотя бросил:
— У вас много умных советников на такие дела.
Генрих, тяжело заворочавшись в кресле, бросив, казалось, ненавидящий взгляд сквозь рыжую поросль ресниц, нетерпеливо напомнил:
— Если ты согласился быть канцлером, твой долг советовать мне, ибо, как ты не можешь не понимать, это дело важности государственной.
Что ж, ему куда больше подходил такой поворот этой затянувшейся, трудной беседы наедине, и Мор, вскинув голову, широко улыбнулся:
— Я никогда не стоил и не стою в особенности теперь вашей милости, которой обязан был только случаю.
Генрих умолк, потупив светлую голову, сцепив рыжеватые пальцы на большом животе, гневно стиснув их в один беспокойный кулак, закусив небольшие бескровные губы. Потом выдавил:
— Но я только прошу тебя исследовать беспристрастно, исследовать добросовестно и строго логично все наличные обстоятельства, и если самые обстоятельства, а не постулаты лицемерной морали, убедят тебя в разумности и справедливости этого необходимого дела твой глубоко и смело мыслящий ум, я был бы счастлив и рад видеть тебя в этом деле вместе со всеми прочими моими советниками и во главе их, это прежде всего.
Угадав, что на этот раз промолчать едва ли удастся, канцлер безразличным тоном спросил:
— А если наличные обстоятельства убедят меня в обратном тому, чего желается вам?
Самодержец переменился вдруг, встрепенулся, ощерился неприветливым маленьким ртом и торжественно-громко заверил его:
— А если наличные обстоятельства в обратном тебя убедят, я обещаю твоего мнения не использовать против тебя. Моё слово твёрдо, ты знаешь, и верь!
Мор понимал, что Генрих честно и с убеждением давал своё королевское слово, но поверить этому не мог, он из истории и по личному опыту знал, как переменчиво королевское слово; всё же не медлил и откликнулся тотчас, в то же время размышляя о том, как непримиримо и сложно запутались обстоятельства, которым решился встать поперёк:
— Я вам верю, милорд.
Генрих выпрямился, раскинув руки по широким ручкам просторного кресла, едва вмещавшего его нездоровое тело, и в упор смотрел на собеседника, высказываясь наконец откровенно:
— Итак, мой брак с испанской инфантой был противоестественный, исключительно политический брак. Ныне эта противоестественность мне омерзела, а политическая необходимость отпала, совершенно отпала с течением лет. Что ни говори, а рассудительная политика ограждает нас понадёжней, чем твои подводные скалы, придуманные тобой, не спорю, остроумно и ловко. Наш союз с Францией уравновесит Испанию, которая занёсшую руку на весь континент. Таким образом, ни та ни другая держава не сможет нам угрожать. Такой союз принесёт нам прочную безопасность, а также немалую выгоду, что, как ты сам понимаешь, нам на пользу пойдёт.
Подумав о том, что в таком случае опасность внешняя сменится опасностью внутренней, канцлер с умышленной неторопливостью задал коварный вопрос:
— И вы женитесь на французской принцессе?
Дёрнувшись как от удара, сузив непримиримые, откровенно злые глаза, король сглотнул тяжёлый комок и мрачно предупредил:
— Ты со мной так не шути... Подобные шутки в своё время погубили кардинала Уолси... Тоже любил пошутить...
Овладел собой и твёрдо сказал:
— Довольно с нас чужеземных принцесс. Довольно своекорыстных династических браков, которые уже давно не дают нам никаких преимуществ. Своей новой женой я сделаю англичанку, даже если в её жилах не течёт королевской крови ни капли. Мы — англичане, и останемся англичанами.
Мор особенно любил и ценил в Генрихе эту своевольную дерзость, эту способность вдруг одним махом разрушить вековую традицию, но на этот раз в славной дерзости короля таилась угроза спокойствию и благосостоянию всего государства. Философ издавна пытался направить эту дерзость, эту способность к неожиданным, непривычным решениям на благо страны, но государь всё чаще не поддавался, капризно и властно поворачивая державу на скользкий путь недовольства сословий, от лорда до грузчика с берега Темзы, путь опасный, грозивший распрями, враждой кланов, наследников, целых провинций, и надежда на то, что он сумеет остановить, образумить, убедить человека, если не короля, опираясь на доводы разума, становилась всё слабее, всё меньше. Он с горечью обронил:
— Значит, Болейн.
Монарх вызывающе, жёстко спросил:
— Так что же?