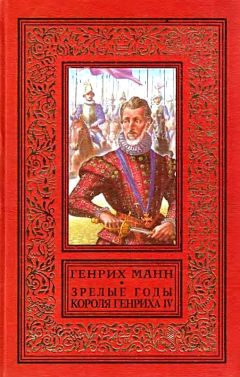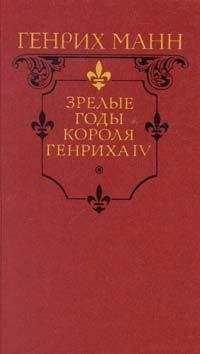Валерий Есенков - Казнь. Генрих VIII
— Порвать с Испанией было необходимо. Не для меня одного. Ты поверь. Но для Англии. Возможно, и для Европы.
Ему было неприятно дышать этим воздухом, застоявшимся, волглым, не освежённым чистым ветром полей, по которым любил гулять. Вызывала досаду роскошная пустота огромного зала. Идти с хромающим королём становилось всё неудобней, всё тяжелей. Видел, что, на какие бы дипломатические умолчания он ни пускался, его всё же втягивали в этот не только тщетный, суетный, но ещё и таящий опасность, слишком многозначительный диспут о личной жизни и политике короля. Душевный покой был утрачен. Настроение становилось всё хуже, каким-то раздражённым, гадким, чужим. Всё-таки терпеливо, с едва уловимой насмешкой спросил:
— Потому что паршивец Карл отказался жениться на вашей любезной сестре?
Взглянув невнимательно, искоса, покачнувшись оттого, что неловко ступила больная нога, король возразил:
— Это был всего лишь отличный предлог. Не больше того. Благодарение Господу, что такой предлог подвернулся. Тебе ли не знать, что Испания становилась слишком сильна и опасна. Этот Карл родился в рубашке. Ему досталась не только Испания. Он стал владеть Германией, Италией, Фландрией и Вест-Индией. Ему противостоит одна Франция. Если бы мы не разорвали с Карлом союз, он раздавил бы Францию, как орех. Тогда ему на потеху осталась бы только Англия, подобие мыши, загнанной в угол. Каково тогда было бы мне, тебе, англичанам?
Пытаясь неприметно вывернуть затекавшую руку из тяжёлой руки короля, шагая неловко, раздражаясь всё больше, ответил негромко, решительно, жёстко:
— От иноземных вторжений нас отлично защитила природа.
Подведя его к большому камину, сложенному из диких камней, в котором, слабо мерцая углями, догорали дрова, король выпустил наконец его утомлённую руку, опустился в тяжёлое кресло, покрытое войлоком, обитое вытертой кожей, и громко хлопнул в ладоши. В тот же миг дежурный выскочил из-за высоких дверей, не издав ни скрипа, ни звука. Не взглянув на него, Генрих отрывисто приказал:
— Больше огня.
Дежурный, услужливо пав на колени, осторожно, умело расшевелил головешки, засверкавшие тут же свежими языками пламени, и ловко, размеренно, с перерывами, давая заняться, подбрасывал тонкие высушенные поленья.
Король, с удовольствием, написанным на лице, протягивая руки к теплу, насмешливо говорил, перейдя на латынь:
— Твоя природа не помешала ни римским солдатам, ни Вильгельму Завоевателю. Ты иногда забываешь, в каком мире живёшь. Жестоком, безжалостном мире, поверь. Наш остров всё-таки не похож, как ты ни старался, на тот, который ты так умно и с такими удивительными подробностями описал в своей славной книге. Я прочитал её с интересом. Не будь я королём, я, может быть, написал бы не хуже. Но я король. Мне известно, что вокруг нас природа не создала стольких подводных мелей и скал, чтобы сделать подход чужих кораблей невозможным, даже в пору туманов, а у испанцев довольно трёхпалубных галеонов, чтобы напасть со всех сторон одновременно, высадить несколько армий и прикрыть их огнём пушек.
Наблюдая, как охотно и весело разгорался огонь, обдавший ноги, обутые в башмаки и чулки, первым, самым ласковым, самым любимым теплом, он почтительно, неподвижно стоял рядом с креслом и без желания, но уверенно отвечал:
— Вместо того чтобы воевать почти беспрерывно четыре столетия, наши солдаты могли бы искусственно так укрепить берега, что немногие защитники отразили неприятеля, каким бы ни располагал он количеством галеонов и пушек.
Взглянув на него с удивлением, Генрих коротко, пренебрежительно рассмеялся:
— Что я слышу! Да уж не поверил ли ты спустя столько лет, что твой выдуманный Утоп в самом деле прорыл те пятнадцать или сколько там миль, которые отделили его особенный остров от враждебного ему, как и нам, континента?
У него робко сжалось и дрогнуло сердце. Мечта, посетившая его в юности, теплилась все эти годы, подобно искре под слоем золы, где-то тайно и глубоко, и, в сущности, никогда не оставляла его. Теперь она вдруг шевельнулась под слоем вседневных забот, всполошив его совершенно некстати. Его доброй мечте не мешали ни удивлённые взгляды, ни пренебрежительный смех короля. Мыслитель подумал о том, что, казалось бы, фантастичное, невозможное, о чём он, страстно мечтая о добром мире и мирном труде, восхищённо писал в своей книге, о чём так неожиданно, высокомерно и почти издевательски напомнил король, могло быть так возможно, вполне исполнимо, легко, хоть бы завтра это начать, пойми только государь, что укрепление берегов удобней и надёжней для всех, не говоря уже о солдатах, которые, оставив оружие, охотно возвели бы неприступные крепости, лишь бы не рисковать беспрестанно жизнью в боях, не принёсших ни покоя, ни мира.
Что бы могло помешать? Разве всему живому не хочется жить? Многим ли из солдат доводится дотянуть до победы, после которой вновь приходится воевать? Разве так много лет отделяет одну войну от другой?
Он нетерпеливо воскликнул, на мгновение забыв, где находится и с кем говорит:
— При желании прорыли бы вдвое!
Король отрывисто приказал, на этот раз по-английски:
— Довольно. Оставь нас. Иди.
Дежурный торопливо подбросил в загудевшее пламя несколько кряжистых поленьев, вскочил и бесшумно исчез.
Генрих слабо повёл рукой в сторону простого тяжёлого табурета:
— Садись и не повышай голос при слугах. Плохой ты придворный, как я ни бьюсь.
Мор сел правым боком к огню, сознавая оплошность, смущённо пробормотав:
— Я предупреждал вас, что я не придворный.
Настроение короля изменилось. Генрих усмехнулся, пожал плечами и беззаботно спросил:
— Отчего философы предаются мечтам? Философам, согласно их званию, надлежит трезво мыслить и видеть вещи такими, как они есть. Скажи, отчего?
Канцлер невозмутимо ответил, подавшись вперёд, опираясь на колени локтями, разглядывая ладонь, по которой весело прыгал алый отсвет огня:
— Я не знаю.
Генрих тоже потянулся к огню, тепло улыбаясь:
— Иногда ты забавляешь меня.
Мыслитель прищурился и напомнил, не взглянув на него:
— Я не шут.
Монарх пошевелил небольшими красивыми пальцами, покрытыми рыжими волосками, которые теперь стали видней, всё приветливей улыбаясь то ли ему, то ли огню:
— Я помню. Я не хотел обидеть тебя. Меня забавляет, как различно мы смотрим на вещи, мудрец и правитель. Не знаю, способен ли мудрец стать правителем, а правитель стать мудрецом. Иногда, в минуты печали, представляется мне, что я мог бы стать мудрецом. Во мне что-то есть. Но чаще я думаю, что не станет ни тот ни другой. В этом мудрость природы, должно быть. Ибо подобное различие взглядов на вещи приятно и полезно уму. Нередко, выслушав твои мудрые возражения, я нахожу, что я согласен с тобой, а король должен поступить совершенно иначе. С тобой эта странность тоже случается?
Мор оттаивал, согреваясь. Было приятно сидеть у огня и беседовать о посторонних предметах. Задумчиво отвечал:
— Эразм полагает, что трудно советовать имеющим власть, ещё труднее рассчитывать, что имеющий власть последует советам философа, я же только считаю, что правда колет глаза и рождает врагов.
По лицу Генриха беспорядочно прыгали рыжие блики огня, искажая его, то увеличивая, то уменьшая, стальные глаза точно плавились, исчезали совсем, так что невозможно было понять, что в действительности думал, переживал человек и король, а голос звучал и сердито и жалобно:
— Это странно, даже обидно, быть может, смешно. Я король. Я властен над всеми во всём государстве. В моих руках жизнь и смерть моих подданных. Нет никого в державе моей, кто был бы равен мне могуществом, даже богатством. И всё же меня никто не понимает, не любит.
Ему почуялось истинное страдание в этом неспокойном, неровном, рвущемся голосе. В душе пробудилось сочувствие и к человеку, и к королю. Притворная сдержанность, которой себя обучил, как должен быть сдержан философ, юрист и политик, растапливалась, уплывала куда-то. Готовясь распахнуться, раскрыться, обмякала душа. Но Мор её удержал, вздохнул, прикрывая участливость и понимание ровным тоном неторопливой задумчивости:
— Недаром же говорят, что трудно тому, кто по своей воле или по воле природы встал над людьми.
Генрих ещё долго смотрел в бушевавшее пламя камина, не отодвигаясь от сильного жара, весь покраснев, щуря стальные глаза, окаймлённые теперь золотыми ресницами, сцепив покрасневшие пальцы дрожавших рук, и наконец прошептал, болезненно, страстно и громко, забыв про латынь:
— Или тупое сопротивление, или тупая покорность... За что же?.. За какие грехи ты меня караешь, Господь?..
Канцлер отодвинулся несколько в сторону от камина, скрываясь в тени, негромко смеясь, будто бы весело, будто бы всё это шутка была, но с болью в растроганном сердце, с жалостью к человеку и государю и за что-то к себе: