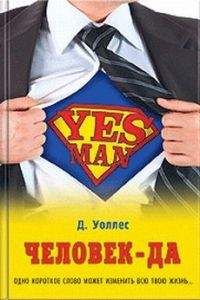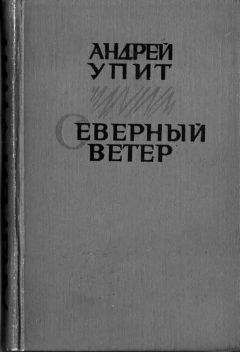Владислав Глинка - Дорогой чести
— Ему лет десять назад домик тут срубили…
— А звать-то как?
— Александр Иваныч.
— Ну, знаем! Вон ихняя баня топится, эн дымок-то…
Подъезжая, Непейцын сказал ваньке, чтоб ждал его, заплатит за простой. Тут извозчика не враз сыщешь.
— Ништо мне. Коня кормить поставлю за ветром, а самого пусть хоть в сенцы обогреться пустят…
— Вам кого, ваше благородие? — услышал Сергей Васильевич.
На крыльце стоял седоусый безрукий человек в затертом мундире — совсем Моргун тридцать лет назад, только одет по новой пехотной форме, во все зеленое… Нет, избушкой этот домик не назвать — по обе стороны крыльца по три окошка.
— Господин Лужков здесь живет?
— Здесь, да сейчас ушедши.
— В город? — спросил Непейцын. Он еще вчера подумал, что в новое царствование Лужков и за реку ходить волён.
— Нет, поблизи, — отвечал инвалид. — Скоро будут, баню с полдён наказали топить. Да пожалуйте в дом, ваше благородие.
— А ты в услужении у Александра Ивановича? — спросил Непейцын, уже стоя в чистых сенях.
— Мы на хлеба у их взяты и за то стараемся в чем можем. Хоть без руки, особливо правой, не больно-то… Зато у товарища моего — двое нас тут — всё налицо, окромя зубов. Он больше на дворе орудует, а я поваром да на посылках.
— Где же тебе, братец, руку отхватили?
— В запрошлым годе под Австрелицем. А то в Азовском полку двадцать один год оттянул, под Измаилом побывал, в саму Италию был зашедши и на горы Швицкие… Да пожалуйте в ихний покой.
— Удобно ли без хозяина?
— Таково наказано. А извощика в нашу половину греться кликну… Да вы, никак, хромаете, ваше высокоблагородие? — Приняв шинель Непейцына, инвалид увидел ордена и повысил его в чине.
— Еще бы не хромать! И моя нога под Очаковом осталась.
После охов и ахов солдата, как младший Тумановский, до конца поверившего в механическую ногу, только ощупав ее всю, Непейцын сел у окошка в комнате Лужкова и остался один. Что ж, хоть и спешно строили, а на совесть: матица широченная, стены — будто бревно срослось с бревном, половицы без щелочки. Мебель когда-то виденная, как и верещагинская, пообтерлась, но чисто содержится, не то что у Громеницкого. Вот и гравюра — Ломоносов за столом. А шкаф всех книг не вмещает, они лежат сверху горой и оба бока подпирают, как контрфорсы старых построек. Тут же поставец с фарфором, с графинчиками, тоже старый. А шкаф платяной, видно, в ином месте. Где-то малиновый с золотом мундир? От крепостных отказался, а что со степью сделал, которую светлейший ему пожаловал?..
За окошком по полю — верно, летом тут выгон — пролегла к кладбищу протоптанная в снегу дорожка. Не больно веселый вид. А впрочем, деревья и деревья, роща. Крестов отсюда не различить. Вон оттуда вышел мужик в рыжем полушубке, на плече заступ, должно могильщик. Он самый: стали видны свернутая веревка на локте и лом рядом с лопатой. Бородка с проседью, шапку назад сдвинул, вспотел, кого-то навек укладывая…
Перешел дорогу к крыльцу. Видно, знакомец солдатский. Гремят в сенях заступ и лом. Открылась дверь, и могильщик глянул на гостя.
— Я к Александру Ивановичу, любезный.
Бородач поклонился:
— Сейчас будет, — и скрылся.
«Никак, он сам? — подумал Непейцын. — Да нет, быть не может! Что за маскарад?» Он встал, прошел к двери.
В сенях звякает кувшин или кружка о ведро — солдат поливал умываться могильщику и рассказывал вполголоса:
— Сказался знакомцем вашим. А нога отстреляна под Очаковом…
Опять открылась дверь. На пороге стоял Лужков, уже без тулупа. Одернул рубаху-косоворотку, разгладил бороду:
— Господин Непейцын? Прошу прощения, имя-отчество запамятовал…
— Александр Иванович?
— Он. Рад, что сыскали меня. Прошу садиться к столу. Дело привело вас или память одна?
— Без дела приехал, увидать захотел. Помню встречу единственную, когда меня с земли подняли, от растоптания уберегли.
— Пустое. А гостю рад. Отколь узнали о моем здешнем житье?
— От живописца Иванова. Мы еще с турецкой войны знакомы.
— Сияет около мистрис своей? — Лужков взглянул на стул, на котором Непейцын сидел у окошка. — Путь мой видели? Что делал, поняли? Изъяснения ждете?.. Так вышло, что когда здесь один оказался, со слугой, впрочем, который потом, оженившись, от меня съехал, то затосковал по делу. Книги с пользой и радостью можно читать часов в сутки по пяти-шести, а остальное время? Цветки? Яблони? Огород? А зимние полгода? И вот тут же, из окошка, увидел однажды, как вы меня давеча, могильщиков, с промысла идущих… Вспомнил в трагедии аглицкого поэта Шекспира одного филозофа, занятого тем же, который говорит, как сие занятие людям нужно. И решил за него взяться. Только не за деньги, понятно. Мало ли таких, которые могильщику отдают монету, еще живым на пищу надобную? Вот так шесть лет и занимаюсь с рассвета до полудня, а то и долее. С могильщиками настоящими, бывало, ссорился, ругали меня, что даром копаю, ну, да и я за словом в карман не лез и кулаком не слаб. А для себя наконец-то дело нашел по душе. Иванов, верно, рассказал, как из царских чертогов я в сии переместился?
— Говорил и как государь вам крестьян двести душ жаловать хотел, а вы отказались, — подтвердил Сергей Васильевич.
— Враки дворской челяди! — рассмеялся Лужков. — Чего не подслушают, то сами придумают. Нашего с государем разговора, чаю, никто не слышал, а я того никому не говорил. Поверьте, кабы пожаловал, так я б не отказался хоть от тысячи душ, чтобы их на оброк самый легкий, а потом и вовсе на волю поотпущать. Лучше мне, чем любому шаркуну или вахтпарадному штукарю они на тиранство достанутся. Дал мне Павел Петрович в пенсию полное жалованье да дом сей с участком, и на том великое спасибо. Но теперь все обо мне сказано. Ведь о вас я только слышал от Иванова, что ногу сию удивительную вам механикус Кулибин приставил. А дале что было?..
За разговором сидели часа три. Пообедали инвалидским варевом, щами и кашей посредственного вкуса. Зато потом пили душистый горьковатый чай в тонких фарфоровых чашках.
— От сего зелья отвыкнуть не могу, — сказал Лужков. — Вина больше не пью, а за чаем в город изредка путешествую. Тогда и бреюсь, как книжные лавки обхожу, где знакомых пугать не след. Одну-две книжки обязательно домой несу.
Когда стало смеркаться и Непейцын собрался ехать, оказалось, что накормленный извозчик спит в кухне, а лошадь, распряженная солдатом с обеими руками, заведена в сарай. Пока расталкивали ваньку и запрягали, опять присели поговорить.
— Где таких молодцов подобрали? — спросил Непейцын.
— Солдат-то?.. Пустовало у меня полдома, что для слуги и кухни рублены были. Кого же пустить? Ведь пенсии моей не на одного хватит. Подумал, что служивые — народ битый да одинокий, деваться им некуда, и кликнул из тех, что Христовым именем ходят.
— На ваших харчах живут?
— Зато двор и дом убирают, огород копают, щи варят, да в сем деле не мастера попались. До прошлого года который жил, тот готовил — хоть к генералу поваром. Зачем раньше не приезжали?
— Куда ж делся?
— Схоронили. Стар был, еще румянцевский. Другого взял.
— А земли ваши новороссийские?
— Брата двоюродного дочке в приданое подарил.
Безрукий солдат доложил, что сани у крыльца.
— Чего же вам пожелать? — сказал Лужков, вставая. — Семьей обзавестись? Но я и бобылем по-своему счастлив, а как на семью болезни навалятся? И одиночество для размышлений вольготней… Генеральского чина? Так, кажись, вы из тех, кому и без него солнце светит… А про себя опять скажу, что тут много счастливей, чем во дворце. Могилы беднякам роючи, за травами, за букашкой и птицей иль, как нонче, за игрой денницы на снегу наблюдая, радости больше познал, чем когда в Академию на собрание хаживал или государыню в библиотеке поджидал… Так вот-с, и пожелаю вам, чтоб под старость оказаться здоровому да в своей родной псковской берлоге средь полей и чтоб добрые люди около случились. Прощайте. Задержитесь еще в сих краях, то милости прошу…
* * *В департаменте сказали, что Аракчеев прислал эстафету — встретил государя, ехавшего в армию, и получил приказ присоединиться к свите.
— Когда ж теперь будет? — спросил Непейцын.
Чиновник развел руками:
— На все воля его величества…
Значит, изволь сидеть в Петербурге и ждать. Все как шестнадцать лет назад: ожидание, неопределенность, надежды…
Но долго жить, как тогда, у Брунсов не довелось. В срок к ним приехали родственники, и пришлось перебираться на Выборгскую. Здесь оказалось к Артиллерийскому департаменту ближе — напрямик по льду от гошпиталя. Да еще Марфа Ивановна ваялась кормить постояльцев за самую умеренную плату. Одному худо — Пете Доброхотову: версты три до Академии. Но сердобольная вдова совала во все Петины карманы пироги, бутылки с молоком, и он, приходя домой только вечером, не стал худеть. А Федор толстел на глазах. Когда же Непейцын сказал об этом, не постеснялся ответить: